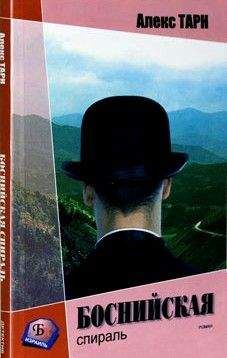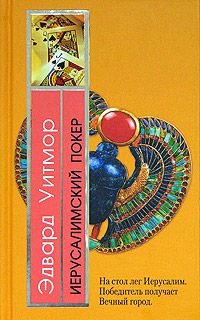«Дошел… — лениво думает Габо. — Во всех смыслах… дошел…»
Ему отчего-то ужасно приятно произносить и слышать это слово, а если так и держать глаза закрытыми, то его даже можно увидеть: вот оно, проплывает рядом с червяками, подобно транспаранту, влекомому самолетом на воздушном параде в Сараево.
Сегодня он вылез из своего лесного укрытия, не дожидаясь полной темноты, когда сумерки еще только начали сгущаться. Он уже видел со склона горы остроконечные минареты города, торчащие в долине, как иглы огромного ежа. Идти оставалось всего несколько километров, но именно эти последние километры и представляли наибольшую опасность. Обидно было бы, проделав столь длинный путь, попасть в руки ханджаров где-нибудь на рыночной площади. Габриэль не боялся смерти; просто тогда получилось бы, что он подвел Симона… Реку Габо переплыл уже в полной темноте, подальше от моста. Вода была жутко холодной, но он справился.
В город Габриэль пробрался неожиданно легко — через огород семьи Леви. Собак в Травнике осталось мало — ханджары перестреляли, и теперь это сильно облегчало задачу. Обходя задами рыночную площадь, он слышал пьяные крики ханджаров и выстрелы в воздух. Ракию они глушили — будьте-нате, даром что мусульмане… А вот дурацкая стрельба по звездам наполнила Габриэля досадой. Ну разве не обидно? Здесь они патроны не жалеют, а в Крушице на людей не хватает… А может быть, они стреляют в Бога?
Габриэль сидит на влажной земле, прислонившись к холодному камню ограды. Он смертельно замерз, но это не беда — к холоду привыкаешь. Его бьет крупная дрожь, но это тоже не страшно. Приступы кашля, подавляемые с неимоверным трудом, беспокоят его намного больше: того и гляди, кто-нибудь услышит его полузадушенное кхеканье… Надо идти в дом, Габо. Что же ты тогда сидишь, не торопишься закончить свое последнее дело на этой земле? Оттого и не тороплюсь, что — последнее. И не в том даже беда, что за последним этим делом наступит уже наконец полное ничто, окончательное расставание с постылой кровавой мерзостью, называемой жизнью — это как раз-таки хорошо, это как раз-таки просто замечательно. А в том беда, что в это самое «ничто» еще надо как-то попасть, надо что-то для этого сделать, куда-то пойти, о чем-то подумать, каким-то образом решить, а сил на все это не остается у него уже ровным счетом никаких.
Новый взрыв пьяных воплей с площади выводит Габриэля из опасной, отупляющей нерешительности. Пошатываясь, он пересекает двор, начинает взбираться по лестнице на высокое крыльцо. Сколько раз он птицей взлетал по этим крепким дубовым ступенькам, торопясь к своему школьному дружку Янко Алкалаю! Отчего же сейчас так трудно?.. Но вот и дверь. Привалившись к мощной стене, Габо переводит дух, негромко стучит и ждет, вслушиваясь в дом поверх неровного колгочения собственного сердца и кашля, раздирающего грудь. Тишина. Он стучит снова, еще и еще. Дом упрямо молчит, крепко прижимая к себе тяжелые крылья ставен, вцепившись сталью засовов в крепкие косяки. Эх, Симон… что ж тут поделаешь, дружище? Война.
Вот и все. Габриэль сползает по двери на сухой деревянный настил крыльца. Дальше идти некуда и незачем. Да и сюда-то, как выяснилось, зря он перся за тридевять земель. Где твоя «половина семьи», Симон? Кому теперь рассказать о твоей могиле? Разве что самому дому… Габриэль прижимается щекою к гладкой дверной древесине.
— Слушай, дом, — говорит он. — Слушай, старый дом Алкалаев. Ты вот меня не впускаешь, а я ведь тебе не чужой. Я Габо Каган, твой старый знакомый. Я тебя, старый хрыч, помню наизусть, от подпола до крыши, каждый уголок. Мне, если хочешь знать, Янко даже тайник показывал, куда старый Алкалай мешки с мукой прятал в голодные годы. Так что зря ты так со мной, дружище.
На Габриэля снова накатывает кашель. Но на этот раз он и не думает таиться — зачем, от кого? Бухает свободно, вовсю, выворачивает наизнанку невыносимо першащую грудь, выхаркивает воспаленные, саднящие легкие.
— Ой… видишь, как меня крутит… Ничего — недолго уже осталось. Но ты все равно зря… Хотя и не во мне тут дело. Ты уж поверь, не для того я сюда перся двадцать километров по лесу да по горам, чтобы помереть здесь у тебя на крыльце. Попросили меня, вот что. Нет, не Алкалаи, не думай… другие… в жизни не догадаешься… Кто бы ты думал, а?.. Симон-цыган! Да ты его и не знаешь, наверное…
В доме вдруг слышится какое-то движение, как будто кто-то вскочил на ноги там, внутри… и сразу — звук отодвигаемого засова. Габриэль не успевает даже удивиться, как дверь бесшумно распахивается, его подхватывают под мышки и, отчаянно пыхтя прямо в ухо, втаскивают в темную горницу.
Потом дверь так же бесшумно закрывается… шорох и легкий стук деревянного засова… и тишина. Габриэль неуклюже возится, безуспешно пяля глаза в непроглядную темноту. Смешно сказать, но ему становится не по себе; одним разом всплывают откуда-то из дальней, детской памяти страшные рассказы о нечистой силе, о покинутых домах, о когтистых вурдалаках, о ведьмах и домовых…
— Эй! — панически выдавливает он из себя. — Ты кто?.. Ты где?..
— Шш-ш-ш… — шипит на него темнота. — Тиш-ш-ше…
Чья-то узкая и теплая ладонь ложится ему на плечо, спускается по руке, берет за пальцы, тянет куда-то вглубь дома. Разве может быть у вурдалака такая нежная рука? А у ведьмы? У ведьмы — может…
Обходя невидимые Габриэлю препятствия, они проходят через горницу, поднимаются по лестнице, делают еще несколько шагов и сворачивают. Путеводная ладонь отпускает руку Габриэля, чиркает спичка, свеча весело высовывает свой бойкий язычок, дразня неповоротливую темноту, и та, обидевшись, уползает в углы, под стол, под кровать, туда, откуда не видать стеариновой забияки. Они вдвоем в маленькой комнатке без окна — он и ведьма.
— Садись, — говорит ведьма и прислоняется спиною к двери. — Говори. Что с отцом? Где он?
— С отцом?.. — недоуменно спрашивает Габриэль. Туман в его голове уже не колышется, как раньше, а крутится сумасшедшим волчком, заметая в едином вихре прекрасных черноволосых ведьм с нежными ладонями, деревянные засовы, превращающиеся на лету в страшные молотки с длинными рукоятями и прозрачных червяков, отчего-то ставших за это время огненными. — С каким отцом? Ты кто?
В комнате тепло, он перестает дрожать, что приятно и даже как-то непривычно… вот если бы только не это кружение…
— Ты что, смеешься надо мною? — сердито говорит ведьма, щуря глаза. Глаза у нее зеленые, с огромными черными зрачками и крутым выгибом ресниц. — Ты же сам говорил: Симон-цыган… попросил тебя… что? Ну, говори… пожалуйста…
Голос у нее ломается на середине слова, и она начинает плакать, совсем не по-ведьминому шмыгая носом. Слезы застревают в ресницах, и она сбрасывает их резким движением головы.
— Да-да, Симон… конечно… — Габриэль берет себя за голову обеими руками и трясет посильнее, чтобы хоть на минутку остановить безумствующий волчок. Вот так. Возьми себя в руки, парень. Ты ведь за этим сюда шел, вспомни. Развел тут детские сказки у ночного костра, про ведьм с вурдалаками. Да ты уж не рехнулся ли часом?
— Сейчас, — говорит он извиняющимся тоном. — Подожди… ты меня прости… я немного не в себе… долго шел, ранен. Симон сказал, что тут у него половина семьи… где же они все?
— Не зна-а-аю… — она прячет лицо в ладони и быстро-быстро бормочет сквозь мокрые от слез ладони. — Были мама, я и две младшие сестренки, они двойняшки, по одиннадцать, Зилка и Хеленка. Говорили им: не выходите, не выходите… и я говорила, и мама: не выходите, не выходите… не выходите…
Бормотание ее переходит в тихий жалобный скулеж.
— Ладно, не надо, — шепчет Габриэль. — Не надо, не рассказывай. Тебя как зовут?
— Энджи.
— Ну вот и хорошо, Энджи. Анджела. Ангел, значит. А я — Габриэль. Мы с тобою вместе Ангел Габриэль… смешно, правда? — Габриэль пытается улыбнуться.
Энджи послушно кивает. Она берет со стола цветастый платок и вытирает мокрое лицо. Она изо всех сил старается помочь Габриэлю в его улыбчивом усилии, но у нее не очень-то получается. Какое-то время они сидят молча, без улыбок, но и без слез.
— Вообще-то это не наш дом, — говорит она почти спокойно. — Мы из Сисака. Когда усташи стали всех убивать, мы убежали сюда. Нам сказали, что босняки не трогают цыган, которые мусульмане.
— Белые цыгане… — кивает Габриэль.
— Ага. Белые. Мы-то не белые, мы просто… Но папа решил, что надо идти сюда и сказать, что мы — белые. Потому что усташи резали всех: и белых, и любых.
— Это дом Алкалаев, — говорит Габриэль. В голове его снова затевается вьюга. Деревянные молотки стучат в висках.
— Ага… Нам сказали: занимайте любой свободный дом. Потому что они уже поубивали всех, кто не мусульманин. Всех, не только мужчин. И поэтому было много свободных домов. Мама сказала, что это нехорошо — занимать чужой дом. Но я думаю, что если бы хозяева знали, что мы не могли иначе, просто не выжили бы, то они бы нас не осудили. Правда?