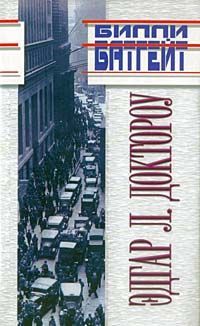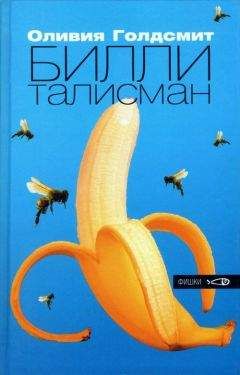В один их тех дней, помнится, он был необычайно жарким даже для июля – сорняк вдоль заборов пожелтел и склонился к земле, над булыжными мостовыми парил воздух, искажая перспективу – все ребята сидели вдоль складской стены в вялом ничегонеделании, а я стоял напротив, через дорогу, и разглядывал местность, демонстрируя последнее свое достижение – жонглирование предметами разного веса. Все искусство состояло в том, чтобы предметы взлетали у меня из рук изящно и на одну высоту, что достигалось поддержкой определенного ритма в усилиях по нарастающей – этот трюк требовал виртуозной четкости, и чем лучше он исполнялся, тем естественнее и обыденнее он выглядел для непосвященных. Поэтому я знал, что я – не только жонглер, но и единственный, кто может оценить этот вид жонглирования. Увлекшись, я позабыл о пацанах и стоял, с поднятой к небу головой; предметы влетали и опускались, следуя движениям рук по заданным орбитам. Я жонглировал, будто исполнял песнь циркового жанра, сам себе артист и зритель и, зачарованный, полностью выпал из мира, не видя, ни как одна легковушка выехала со 177-ой улицы на Парк-авеню и остановилась у гидранта, не заглушая мотор, ни как, наконец, подъехал большой «Паккард» и остановился против ворот, загородив их для меня. Если бы я не смотрел вверх, то видел бы, что все ребята уже поднялись на ноги и отряхивали задницы, что из машины вышел мужчина, открыл заднюю дверь и вот оттуда, в немного примятом белоснежном костюме, пиджак нараспашку, галстук приспущен, с платком в руке, промокая взмокший лоб, вышел, когда-то для соседей мальчик по имени Артур Флегенхаймер, а ныне известный по всему городу, мужчина по прозвищу Голландец Шульц.
Разумеется, я вру, что ничего не заметил. У меня отличное боковое зрение и все я видел. Но притворился, что меня ничего не интересует, кроме жонглирования. Шульц же вышел из машины, облокотился о верх локтем и посмотрел на меня. Я, приоткрыв от усердия рот и бегая глазами по небосводу, изображал ангела, взирающего на Господа. Затем я проделал потрясающую вещь: я скосил глазами на жаркую улицу, отметил про себя – вот он, Шульц не только смотрит на меня, но еще и удивлен и приятно поражен моей ловкостью – и, продолжая бросать предметы, мои миниатюрные планеты, задал им немного другую траекторию. Один за одним с одинаковым интервалом на одинаковой скорости я отправил два шарика, апельсин, яйцо и камень через себя за забор, прямо на пути нью-йоркского метрополитена. Закончив, я так и остался стоять с воздетыми к небу руками, ладони открыты солнцу, и на секунду застыл в театральной позе, как перед зрительным залом, что, кстати, было как нельзя более соответствующим моменту и именно то, что я тогда чувствовал, завершив удачнейшее из моих выступлений. Великий человек засмеялся и зааплодировал. Затем взглянул на своего помощника справа, пригласив того оценить искусство мальчугана, тот немедленно присоединился к аплодисментам. Потом мистер Шульц поманил к себе пальцем и вот там, у машины, с одной стороны – аудитория мальчишек, сгрудившихся в отдалении, с другой – дверца «Паккарда», я увидел лицо повелителя и его руку, вытащившую из кармана, толщиной в ломоть хлеба пачку банкнот. Он отделил одну, десятидолларовую, и протянул мне. И пока я таращился на невозмутимого Александра Гамильтона в овале 19-го века, я в первый раз услышал характерную хрипотцу гулкого голоса мистера Шульца, думая в тот момент, что картинка на купюре ожила и говорит со мной, пока, наконец, не привел себя в чувство и не осознал, что слышу великого гангстера моих грез. «Толковый парнишка!» – сказал он, как бы делая вывод. Затем рука убийцы снизошла до меня, как скипетр державной власти, мягко коснулась моих щек и подбородка, горячая ладонь слабо похлопала по шее. Спина Голландца исчезла в темноте пивного склада, тяжелые ворота закрылись, лязгнула щеколда.
То, что случилось сразу после этого, показало мне последствия переворота в моей судьбе: ребята немедленно окружили меня и уставились на свежую «десятку» в моей руке. До меня дошло, что осталось несколько секунд до того, пока эта бумажка не будет принесена в жертву клану: кто-нибудь что-нибудь скажет, другой вцепится мне в плечо, ярость и унижение вспыхнут одновременно, коллектив бросится на дележку богатства, заодно преподавая всем урок, возможно, для убедительности, чтоб не задавался, расквасят мне нос.
– Смотрите, – сказал я, складывая купюру вчетверо, на самом деле прикрывая ее ладонью сверху, потому что перед самой атакой, они бестолково сгрудились вокруг меня, телами занимая свободное пространство, сложил ее еще раз длину и еще раз в ширину, когда она уменьшилась до размеров почтовой марки, я положил ее между ладоней, потом – оп! – разнял, но ее уже там не было. О, вы, проклятые оболтусы! Жаль, что какое-то время мне надо было примкнуть к вашей горе-компании, о, вы, жалкие ублюдки, измывающиеся над своими младшими сестрами и братьями, вы, никуда не годные воришки булочек и конфет, идиоты, домогающиеся воровской романтики, с вашими уже мертвыми, бессмысленными глазами, бледной кожей, обезьяньими замашками – прощайте навсегда! Оставляю вам комнаты внаем, вопящих младенцев, будущих нерях-жен, медленную смерть в безысходности и закабаленности от работодателей, предрекаю вам ваши преступления и достойное за них наказание, перспективу «неба в клеточку» и одиночную камеру до конца своих дней!
– Смотрите! – крикнул я, показывая пальцем вверх. Их головы вскинулись, ожидая, что мои 10 долларов вспорхнут в небо им на потеху, как это я часто делал с их монетами, железками и кроличьими ногами, и в этот момент, когда они еще ничего не поняли, я толкнул пару из них и рванул прочь!
Догнать меня было невозможно, но они попытались. Я пересек 177-ую улицу и побежал на юг. Некоторые повисли у меня «на хвосте», другие ринулись на параллельные улицы, веером охватывая все пути моего вероятного маршрута, но я бежал по прямой, никуда не сворачивая. Вскоре они начали останавливаться, чтобы подтянуть штаны, а я прибавил ходу и свернул, чтобы окончательно сбить их с толку и вскоре остался один. Это была 3-я авеню. Я сел на приступок у ломбарда, расшнуровал свои тенниски, расправил банкноту и засунул ее внутрь. Зашнуровав, я побежал дальше, просто так, от радости, попадая то в тени от домов, то в солнце, как в кадры фильма, чувствуя каждый теплый луч, как прикосновение пальцев мистера Шульца.
Все последующие дни я был очень непохож на себя. Я был тих и слушался старших. Как-то вечером стал убираться в доме и мама испытующе посмотрела на меня поверх стеклянных стаканов, в которых вместо воды стояли свечи – это была странность и скорбь жизни моей матушки – так вот, она посмотрела на меня и спросила:
– Билли? Что ты натворил?
Момент был очень интересный и мне стало любопытно: а что же дальше? Но уже через секунду ее внимание вновь поглотили стаканы с горящими в них свечами. Она вглядывалась в них, будто читала, будто каждое колебание огонька выражало букву ведомого только ей алфавита. День и ночь, зимой и летом, она читала эту Библию – свечи! Их у нее было всегда много, она заставляла весь стол стаканами и свечами. Другим людям такой стол с огнями нужен разве что раз в году, ей он был нужен каждый день.
Я присел на выступ пожарной лестницы, стал ждать ночного ветерка и продолжал думать то, о чем никогда прежде не думал. Тогда, перед пивным складом, у меня и в мыслях не было ничего кроме жонглирования. Степень надежд на чудо не превышала обычную величину, как и у всех околоскладских ребят. Если бы я жил около стадиона «Янки», я бы знал, где вход для игроков, а к примеру, живи я где-нибудь в фешенебельном Ривердэйле, мимо мог проехать сам мэр и помахать мне рукой из машины. Это была обстановка, это были реалии того места, где ты жил и для любого из нас они не значили больше, чем значили. А часто даже еще меньше, как, к примеру, еще до того как мы все родились, заезжал на Тремонт-авеню Джин Отри со своим ансамблем и выступал в перерывах перед показами кинокартин – ну и что, это все окружало нас и было нашим, оно само по себе ничего не значило, пока оно было нашим, оно лишь удовлетворяло твои идеи о судьбе, проходило отметкой в мире, метило тебя: тебя знают, тебя видели и твои перспективы на жизнь такие же, как у великих мира сего и тех, кто рядом с великими. О, они узнали нашу улицу! Да, узнали. Ну и что? Так думал я до того события, ведь не мог же я в самом деле спланировать, что буду ежедневно жонглировать до тех пор, пока это не заметит мистер Шульц. Просто так получилось. Но раз событие произошло, оно может стать предзнаменованием. Мир в большинстве своем хаотичен и событиен, но каждый случай потенциально пророчит тебе что-то. Сидя на приступке, одной ногой на лестнице, другой – на горшке с засохшим цветком, я развертывал 10 долларов и свертывал.
Через дорогу стояло здание приюта для сирот, официально «Дом для детей. Макс и Дора Даймонд». Это был дом из красного кирпича, с тонкими гранитными полосками, окаймлявшими окна и крышу; внизу – огромное, полукруглое крыльцо, сужавшееся кверху, оно состояло из двух половинок, разделенных входными дверями. Стайки ребятишек покрывали ступени, они весело чирикали о чем-то своем и с моего высока выглядели, как беспорядочная масса воробышек, скакавших вверх-вниз, вправо-влево. Некоторые повисли гроздьями на поручнях, окаймлявших крыльцо. Их было так много, что я удивился, где Макс и Дора всех их размещают. Здание было маловато для школы и общежития, подразумевая своим видом, что где-то сзади есть дополнительные корпуса, что, в условиях застроенной тесноты Бронкса, даже для благотворителей-богачей Даймондов было накладно, но, тем не менее, корпус был больше, чем казался; этот дом смог приютить многих, он дал мне друзей детства и даже несколько детских сексуальных приключений. Я заметил моего старого приятеля, из породы неисправимых и невоспитуемых, Арнольда Мусорщика. Он толкал впереди себя детскую коляску, доверху заполненную всякой дребеденью – основным богатством Арнольда. Он работал от зари до зари. Я посмотрел, как он стаскивает коляску в подвал, игнорируя малышей, крутящихся вокруг. Потом дверь в подвал закрылась, он исчез.