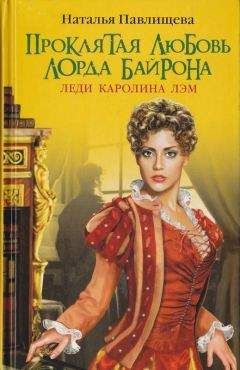Сила традиции одушевляет и исторические повести Додерера. Он не склонен идеализировать прошлое. Однако разрушение личности в современной буржуазной действительности невольно побуждает писателя в минувшем искать примеры, подтверждающие человеческое величие.
Один из них — испанский рыцарь Руй де Фаньес в «Последнем приключении». Дракон, с которым ему приходится сражаться, огромен, как гора. Нет никаких шансов на победу, даже на жизнь. Но рыцарь обнажает меч. И не ради руки дамы Монтефаль, а чтобы проникнуть в смысл собственного существования. Кроме того, так уж сложилось: рассказ бродячего шпильмана привел его в этот лес, и надлежит действовать последовательно. Маленькому, бесстрашному человечку просто повезло: дракон был мирным и сонным. Однако прежде, чем тот, потеряв рог, уполз, Руй заглянул в его глаза и постиг тщету всего. Тем не менее он продолжает странствия и с криком: «Монтефаль, Монтефаль!» гибнет в бою за правое дело.
«Последнее приключение» — миф, героическое предание, поведанное поэтически-спокойно, отнюдь не иронически и все же — в согласии с додереровской манерой — как бы из сегодняшнего времени. Оттого лежит на нем налет грусти. Это не тоска по некоему «утраченному раю»; сам сеньор Руй сложен, внутренне нецелен, отчужден, подобно людям новейшего Запада, по и значителен. Его можно убить, однако победить нельзя. Наверное, прав австрийский писатель X. Айзенрайх, когда говорит, что «Последнее приключение» по что иное, как «Старик и море», «только по-европейски, то есть нечто рассказанное в стиле, представленное в образах нашей традиции».
Роман «Окольный путь» сделан по-иному. Он — произведение собственно исторического жанра, изображающее эпоху после Тридцатилетней войны, эпоху немецкого барокко, которую Додерер хорошо изучил, работая над научными трудами. И эпоха воссоздана во многих своих фактических подробностях. Но дело, конечно, не в ней, а в людях, в характерах.
Бывший капрал Пауль Брандтер как будто счастливо избежал петли, но в действительности лишь получил отсрочку. «Кружной характер жизни, — пишет Додерер в „Тангенсах“, — когда человек действует иначе, чем думает, можно проследить на этих отклоняющихся в сторону плавных поворотах — поворотах высшего порядка, — представляющих основную форму, в которой осуществляется движение судьбы во времени». Это одна из его любимых идей. Так движется Мельцер к своему «очеловечиванию», так движется Брандтер к своей виселице. Однако в судьбе последнего есть какая-то эпическая, античная предопределенность. Как Эдип, как Агамемнон, как Орест, он бессилен противостоять судьбе. Но в нем нет их величия.
Зато величие есть в другом герое, другом испанце — графе Мануэле Куэндиасе. По отношению к Брандтеру он даже сыграл роль «судьбы», ибо добился отсрочки. Он любит Ханну (Или полюбил ее, так сказать, в «сцене под виселицей».) и не смеет ее, простолюдинку, любить. Не исключено, что именно поэтому (Додерер намеренно не мотивирует поступки героев, и судить об их побуждениях можно лишь в известном приближении.) он и устраивает брандтеровское помилование: чтобы освободиться от одержимости Ханной, которая станет теперь чужой женой. Но судьбу не обманешь, особенно свою собственную. Годы спустя она настигает его в лице вооруженного ножом, понукаемого ревностью Брандтера. Трагизм ситуации усиливается тем, что обманутый муж подстерегал совсем не его, а настоящего любовника Ханны. Куэндиас — искупитель, принявший смерть за чужие грехи. Он любил, он страдал, он умер — почти добровольно, может быть в глубине души призывая такой конец своей жизни и своей страсти.
Додерер знал, что человек обусловлен обществом, своей ролью и местом в нем: «Немыслимо постоянно отрицать то, что, говоря словами Шопенгауэра, собою представляешь, отрицать исходя из того, чем являешься или чем хочешь быть. Невозможно носить платье и не греть его своим телом, носить платье, которое не подошло бы к твоей фигуре и т. д. Оно в некотором роде становится самим тобой».
В то же время Додерер не замыкает человека в пределах его социальной роли, видит в нем нечто гораздо более сложное, значительное и непокорное. А потому он и является современным романистом, не только противоборствующим собственной эпичности, но и стоящим ближе к Достоевскому, чем к Бальзаку.
Диалектика зависимости от условий и сопротивления им намечается уже в одной из самых ранних додереровских вещей, которая носит название «Семь вариаций на тему Иоганна Петера Хебеля» (написана в 1926, издана в 1966 году). Додереровские вариации (не считая первых двух) с хебельским анекдотом, да и между собой, казалось бы, вовсе не связаны. Однако связь имеется, правда не фабульная, а философская. У Хебеля бухгалтер гибнет по внешнему принуждению, а в последней из вариаций жизнь, радость, надежда возникают в душе путника вопреки всему внешнему. Это те полюса, между которыми окольным путем, отклоняясь то в одну, то в другую сторону, идет у Додерера становление человека. Но упор делается на сопротивлении судьбе.
* * *
X. Айзеарайх относит «Слуньские водопады» к лучшим произведениям Додерера. Это последний из завершенных им романов, как бы подводящий — уже в силу сложившихся обстоятельств — итог всему творчеству. Он для творчества Додерера в высшей степени типичен и в то же время обнаруживает некоторые если не новые, так по крайней мере специфические черты, являющиеся, можно бы сказать, развитием, усилением черт старых.
Хотя в данном случае мы имеем дело с романом куда меньшего объема, чем «Штрудльхофская лестница» и «Бесы», принципы его построения существенных изменений не претерпели. Автор здесь — тот же насмешливый демиург, по собственному произволу ворочающий пластами времени, разглядывающий их с дистанции, но и лицедействующий порой в маске скромного, лишенного всеведения хрониста. Такая двуединая авторская роль как бы уже окончательно сложилась: никого похожего на Гайренхофа, на рассказчика во плоти, нет и в помине; это вроде бы освобождает от необходимости придавать повествованию документированный вид, поддерживать иллюзию достоверности. И автор преступает все конвенции: например, попросту «выбрасывает из композиции» проституток Фини и Феверль, когда перестает в них нуждаться.
Действие по-прежнему, как правило, складывается из отдельных, «новеллистичных» историй многочисленнейших персонажей: адвоката Эптингера, домовладельца Кайбла, зубного врача Бахлера, жены директора Фрелингера, графской вдовы Эмилии Эрголетти, помещика Глобуша, консьержки Веверка, художника Грабера, разбойника Окрогельника, консьержки Венидопплер и т. д. и т. п. Однако помимо самих Слуньских водопадов, выполняющих примерно ту же структурную функцию, что и Штрудльхофская лестница, в книге есть еще один центр. Это история английского семейства Клейтонов и их построенного в Вене завода сельскохозяйственных машин. «Слуньские водопады» вообще нечто вроде своеобразной семейной хроники, то есть в жанровом отношении роман более традиционный, чем «Штрудльхофская лестница» или «Бесы».
Что касается внутрисюжетных связей, то они осуществляются, как и в предыдущих романах: по капризу автора и за счет родства, знакомств и всяких прочих случайных и неслучайных отношений героев. Но на этот раз додереровский мир — как симптом целостности и единства — уплотнен чуть ли не до границ вероятного: жена Бахлера является сестрой Эптингера и любовницей Кайбла, ее дочь от Кайбла Моника становится любимой Дональда Клейтона, а затем любовницей и наконец второй женой его отца Роберта.
Может быть, Додерер потому чувствовал себя вынужденным намотать такой сложный клубок связей, что роман его, будучи сравнительно небольшим по объему, распространяется на широчайшие временные и пространственные пределы. События происходят между серединой 70-х годов прошлого века и 1910 годом не только на территории старой Австро-Венгрии, но и за ее пределами. «Бесы» — роман почти исключительно «венский», в «Штрудльхофской лестнице» по временам мелькают То Будапешт, то Париж, то Константинополь. География «Слуньских водопадов» еще разнообразнее: разные края Габсбургской монархии, Англия, Ближний Восток.
Этот роман вообще шире по дыханию. Конечно, и в нем преимущественное внимание обращено на жизнь частную. Однако автор нередко заглядывает и в сферу деловую, служебную. Ведь многие его герои так или иначе соприкасаются с фирмой Клейтонов и ее экономическими проблемами. Один из них — Йозеф Хвостик, сын ресторанного кельнера, за долгие годы верной службы Клейтонам сделавший в фирме карьеру, превратившийся в ее мозг и опору. Это в изображении Додерера классический тип австрийца, венца. Он умен, собран, талантлив, деловит, но не на немецкий, а скорее на какой-то австрийско-славянский лад.
Вся картина австрийского довоенного быта пронизана легкой элегической грустью. Это фон, особенно контрастно оттеняющий происходящее в Доме Клейтонов. Здесь все предвещает смещения, разломы, катастрофы, воплощающиеся в Дональде, через него реализующиеся. Он слаб, одинок, замкнут, бездомен, вышиблен из колеи. Он своего рода вариант Ганно Будденброка, вариант декадентского вырождения последыша в купеческом роду. Только бездуховный (Дональд не артист и вообще человек, лишенный собственных идей), в глазах Додерера, именно австрийский — пусть герой и англичанин. Падение в Слуньский водопад — конец для Дональда, так сказать, естественный.