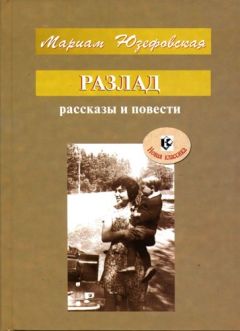Раньше Быстрова все мечтала: «Выйду на пенсию и уеду к себе на Рязанщину». Все не могла прижиться в Литве, хоть и прошло уже столько лет. «Там хоть все по-нашему говорят. Все свои, русские». А теперь вроде и Литва стала родней. Даже язык начала учить понемногу. Пранас заставлял: «Раз меня любишь – значит и Литву, и литовский язык должна полюбить». Начнет ее мучить: «Скажи по-литовски «мой любимый», тогда поцелую». Она и так, и сяк. Стеснялась очень. Пока не скажет, до тех пор и поцелуя не получит. А за ласку его не только что литовский готова была выучить, на брюхе поползла бы за ним. Совсем гордость потеряла, что хотел, то с ней и делал. Просто сама себя не узнавала.
Так шло время, жила, словно вор на ярмарке, ловчила, крутилась и главное – старалась о завтрашнем дне не очень-то задумываться. А осенью посыпались беды, как из худого мешка. Первой ласточкой была любимая дочь. Разошлась со своим мужем окончательно и решила поехать за счастьем в дальние края по вербовке. Да не куда-нибудь, а в Сибирь. Уж как ее просила Быстрова, как умоляла – ничего не помогло. «Поеду – и все». Мало того – еще и матери в душу наплевала, расщедрилась напоследок: «Это ты виновата в том, что я неудачно замуж вышла, ты. Сама привыкла что ни попадя хватать, лишь бы на бобах не остаться, и меня к тому же приучила. Ты зачем за Николая замуж вышла, – без всякой пощады карала ее дочь, – зачем?» Быстрова сидела, обхватив руками голову, и молчала. А что она могла ответить, разве им, молодым, объяснишь? «Ты же его не любила, он, может, с другой женщиной был бы счастлив, ты сгубила его». Умом Быстрова понимала, что в дочери говорит своя боль, но от обиды казалось, сердце вот-вот из груди выскочит. «А меня ты разве любила? – продолжала наступать дочь. – Помнишь, неделями жила одна? Кому я была нужна? Соседи как узнали, где ты работаешь, стали от меня, как от чумной, шарахаться! Да я трижды на дню проклинала тогда и твой хлеб, и то, как ты его зарабатывала. Ты не думай, я хоть маленькая была, но уже все понимала». На том и расстались. Правда, деньги у матери взяла, не побрезговала. «И на этом спасибо», – с горечью подумала Быстрова.
На перроне, уже перед отходом поезда, дочь пошутила: «Что крестникам твоим передать?» Быстрова промолчала. А что скажешь, слов из песни не выкинешь, хоть и не дочери попрекать ее, но ведь как водится – никто тебе так душу не ранит, как родной человек, потому что бьет по самому больному, по самому затаенному – и бьет без промаха. Знает, куда бить.
А через неделю вызвал к себе Шилотас. Конечно, добра не ждала. Слишком хорошо знала – любит по поводу и без повода школить всех, кто зависим. Сам признавал в хорошие минуты, посмеивался: «Или всех грызи, или лежи в грязи». И хоть ей поблажка была, но все равно перепадало частенько. Вот и ждала выволочки, тем более что знала, есть у нее промашка в работе. Не по ее вине, но все равно спрос с нее. Слишком уж много развелось в общежитии мертвых душ. И прописаны, и платят – но не живут. Раз в месяц переночуют, чтоб числиться – только их и видели. Уж она и проверяла, и следила, а все равно вокруг пальца обводят. Что ж делать? Люди десятками лет ни кола ни двора не имеют, вот и устраиваются каждый как может, вьют гнезда, кто на квартире, кто у родственников. А коечник из общежития, известное дело, в очереди на квартиру всегда первый. Да она и сама сочувствовала таким, помнила – каково это, когда своего угла не имеешь.
Против обыкновения Шилотас встретил ласково. Сначала разговор о семье, о здоровье завел, чего сроду за ним не водилось. И главное – взгляд такой, что прямо обмерла: «Неужели за старое опять принялся?» Было время, проходу не давал. Но тут она твердо стояла на своем: расплатилась – и квиты. А он молчит, то очки протирает, то карандаши на столе перекладывает, она уж истомилась вся. Чувствует, что время тянет, а чего – понять не может. Встать бы да уйти – но духу не хватает. Вот и сидела, а в душе тревога нарастала и нарастала. Чувствует, уже красными пятнами пошла. Наконец сказал, не торопясь:
– Тут один небольшой вопросик. Сигнал на тебя поступил. Аморалку на рабочем месте разводишь.
Ее будто кипятком ошпарило:
– Кто это наплел такое? – Конечно, знала, рано или поздно раскроется, но все равно не ожидала.
Шилотас усмехнулся:
– Кто, сказать не могу, сама понимаешь, но сигнал поступил.
Она оправдываться не стала, давно про себя решила, если что станет известно, начисто все отрицать. Потому хмуро сказала, вставая:
– Если за этим вызывали, так я пойду.
Он положил ей руку на плечо и начал не то извиняться, не то сомнениями делиться:
– Вот и я так думаю, если уж баба в молодости ни рыба ни мясо, неужели к старости кровь в ней вдруг заиграет? – Она угрюмо молчала. – Но ведь дыма без огня не бывает, а? Как считаешь? – продолжал допытываться Шилотас, а рука его уже скользнула к шее.
«Да что же такое? – Огнем полыхнула в ней ненависть и гадливость. – Этот слизняк меня лапает, а я стою, как овца? Верно Пранас говорит – всех боюсь!» Она резко сбросила с себя его руку и пошла к двери.
– Стой, Быстрова! Слышишь, стой! Еще не все сказал. Человек, который этот сигнал дал, не балалайка какая- нибудь, я ему доверяю. Если подтвердится – по всей строгости ответишь. Как член партии. И с работой распрощаешься, и с квартирой. Ты не забыла, что квартира у тебя ведомственная?
И так обидно ей стало – до слез. Подвал этот с плесенью по углам, без воды, без туалета – квартира? Да сколько трудов, денег ею вколочено за эти годы, чтоб обжить, в божий вид привести, а теперь, выходит, выгоняют? Сам-то в хоромах живет. Только на ее памяти вторая квартира, не считая той, что дочери-сопливке выхлопотал. Видно, накопилось в ней по самый краешек, подошла чуть ли не вплотную:
– Вы мне не угрожайте. Пуганая-перепуганая. Вначале докажите мою вину. А что до работы, то была бы шея, а хомут найдется.
Шилотас отступил, недобро усмехаясь:
– Ишь ты – какая смелая стала! Не узнаю я тебя, Быстрова, не узнаю. И работой уже не дорожишь. Может, крупное наследство из-за границы ожидаешь? Ладно. Иди, – круто оборвал он себя.
«Неужто и про Степана Егорыча пронюхал? А может – просто так сболтнул? Нет. Он не из таких, он зря слов на ветер не бросает. Кто же донес? Кто? Ведь ни одной живой душе не сказала». Уже ночью, мучаясь в бессоннице, вдруг подумала: «Я ведь тоже ему служу. Так и раскидывает свою паутину».
Конечно, Пранасу ни слова о своих бедах. «Известное дело, – думала она, – и мужик любит бабу красивую да счастливую». Долго в одиночку мозговала-прикидывала и решила найти где-нибудь комнатенку на окраине. Почти неделю бегала, искала, страху натерпелась. Городок маленький, чуть ли не все друг друга в лицо знают, а не в лицо, так через общих знакомых, родственников. Наконец нашла, и о цене сговорились. Заломили втридорога, но зато на отшибе, и хозяева в отъезде. Теперь нужно было еще Пранаса уломать. Последние дни почти не виделись. Все нездоровьем отговаривалась, он то ли верил, то ли нет – не поймешь. Утром зазвала к себе в кабинет, сунула записку, только и успела шепнуть: «Приходи вечером», – как в дверь вошла кастелянша. Быстрова слушала ее жалобы на недостачу белья, а сама все прикидывала в уме: «Может, эта ко мне приставлена?» Теперь чуть ли не каждого из обслуги подозревала. Вечером встретилась с Пранасом на квартире. Прибежала пораньше, чтобы хоть чуть-чуть грязь разгрести. Постелила чистое белье. В стакан с водой астры поставила, на пол половик домашний бросила, окна занавеской зашторила, а между бревен, где торчал мох, воткнула кленовые красные листья. И так ей показалось празднично и красиво, точно в лесу. Хотела еще стол прибрать, да не успела, Пранас пришел.
– Ты чего это в шпионов играешь? – сумрачно спросил на пороге.
– Нужно так, нужно, Пранай, – бросилась к нему и целует его, и ласкается, будто в последний раз видятся.
Обычно он тотчас от ее огня вспыхивал, но тут холодно сказал:
– Палаук (подожди).
– Кодел, Пранай, кодел (почему)? – шептала она, еще больше разгораясь счастливым жаром.
– Ня норю (не хочу), – отстранился он грубо.
Она испуганно посмотрела на него. Села за стол, начала рисовать пальцем узоры на грязной клеенке, машинально думая: «Скатерть не забыть бы в следующий раз принести». И вдруг поняла: «Все. Конец». И такая усталость на нее навалилась, такое безразличие, одного хотелось: лечь и уснуть.
– Чего привела меня в эту грязную конуру? – Он брезгливо осмотрелся вокруг, вытащил лист клена, бросил на пол. – Твоя придумка? – Она кивнула головой. – Что за баба? Не пойму, – сказал он, словно ее тут и не было. – Иногда кажется – душу за меня готова отдать, родней матери, а иногда – совсем чужая. Скрывает что-то, молчит. – Взял ее за подбородок, посмотрел в глаза, полные слез, сказал с горечью: – Пранас только для кровати нужен, да?
Надел плащ, накинул капюшон, на улице дождь с утра лил, как из ведра. И тут будто что-то толкнуло ее в грудь: «Ведь уходит, насовсем уходит».