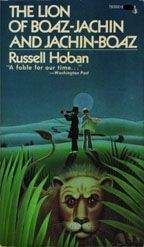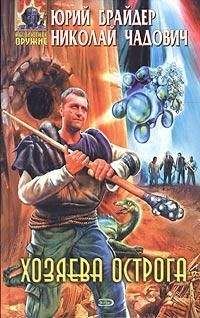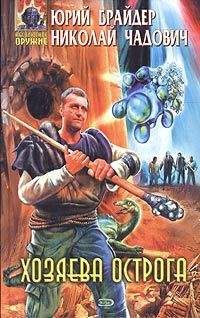Иахин–Воаз слушал, как она с теплотой рассказывает об умершем человеке, которого никогда не знала. Он разглядывал ее и гадал, в каких ее чертах, в каких жестах и движениях, в каких мыслях и признаниях продолжает ее отец жить. Никогда еще он не встречался с женщиной, которая хранит память о мужчине с такой нежностью, с какой Гретель помнила о своем так и неузнанном отце. Он никогда не встречал такого нежного существа. А она никогда не встречала мужчину, который бы так восполнял ее, давал понять, что ее персона столько значит для него, настолько ценна. Они полюбили друг друга.
Когда они в первый раз занялись любовью, Иахин–Воаз был на седьмом небе от сознания своего успеха. Эта высокая белокурая девушка, дочь воинов, лежит обнаженная под ним и смотрит на него снизу вверх в страхе, обожании, восторге счастливой отдачи! И кому — ему, сыну книжников, потомку поколений гонимых людей в черных одеждах, согбенных от ученых трудов. Мое семя в твоей утробе, думал он. Мое семя в чреве дочери воина. Это было так, будто он увлек самую желанную девушку своих юношеских грез, тогда недоступную, а теперь превратившуюся в молодую женщину, в самые дебри плотских утех и радостей. Он был ее старик, сильный и мудрый. Иахин–Воаз был невероятно доволен собой.
Позже он с радостью обнаружил, что любит Гретель не за что‑то особенное, чему он придавал значение в прошлом. Не за разумность или какие‑то достижения. И не за то, что она совершила. Он любил ее просто потому, что она была. Вот это да, удивился про себя Воаз–Иахин. Беспричинная любовь.
Он нанял небольшой фургон и с триумфом перевез ее вещи на свою квартиру. Она утвердила свое семейное положение тем, что прибралась в ней. В субботу, когда он прилег вздремнуть, она осторожно приблизилась к его загроможденному столу. Это небезопасно, думала она, но я обязана это сделать. Просто не могу удержаться.
Иахин–Воаз не спал и слышал, как она передвигает вещи на его столе и перекладывает бумаги, вытирая пыль. Плевать, думал он. Даже если она выбросит все в окно, я не разлюблю ее.
Так Гретель наткнулась на карту карт.
— Не думаю, что она предназначена для своего сына, — сказала она, когда он рассказал ей о карте. — Мне кажется, ты сделал ее для себя.
— Ты действительно так думаешь? — удивился он.
— Да. И карта привела тебя ко мне, так что я вполне ею довольна.
Иахин–Воаз коснулся нежной кожи на ее талии, провел пальцем по бедру.
— Это поразительно, — произнес он. — Я жил на этом свете уже восемнадцать лет, пока ты не родилась. Тебе был год, когда я женился. Ты так молода!
— Состарь меня, — сказала Гретель. — Израсходуй меня. Сноси меня.
— Я не могу состарить тебя, — отвечал Иахин–Воаз. — А ты не думала, что можешь омолодить меня, а?
— Я ничего не могу сделать с тобой, — сказала Гретель, — кроме разве заставить иногда почувствовать себя комфортно. Мне кажется, на свете никогда не было молодого Иахин–Воаза до того момента, когда старый взял свою карту и ушел из дому. Так что теперь на свете есть Иахин–Воаз, которого прежде никогда не было, и он — мой.
Порой, едучи в метро, он видел краем глаза заголовки газет, которые читали другие пассажиры. ИАХИН–ВОАЗ ВИНОВЕН, гласили они. Когда он вглядывался пристальнее, они преображались в обычные новости.
Воаз–Иахин закончил свой первый рисунок. Это была аккуратная полномасштабная копия изображения умирающего льва, двух стрел и двух копий, что погубили его.
Сейчас он как раз переносил этот рисунок на лист коричневой бумаги. Второй рисунок отличался от первого лишь тем, что одна из стрел больше не торчала в теле льва, а лежала, попираемая его задней лапой, как если бы стрелок промахнулся.
По мере того, как Воаз–Иахин продвигался в своем занятии, одна вещь все больше и больше привлекала его внимание — колесо. Он помнил, как прикоснулся к камню, из которого был высечен барельеф, и почувствовал его холодную недвижность. Веками умирающий лев пытается допрыгнуть до великолепной фигуры царя с непроницаемым лицом, и навечно его попытка обречена на провал, ибо громадное колесо уносит царя прочь, невредимым. И то, что оба давно уже мертвы, не имело никакого значения. Царь всегда ускользал из когтей льва.
— Колесо, — вслух произнес Воаз–Иахин. Ибо дело было в колесе, а колесо было колесом. Скульптор прекрасно знал то, что стало известно Воаз–Иахину лишь недавно, когда один оборот колеса забрал с собой его отца и карту, и осталась лишь темная лавка, и колокольчик, и дверь, и ожидание. Воаз–Иахин пожалел о своем знании. Лучше бы он не узнавал колеса.
Воаз–Иахин тряхнул головой.
— Укусить колесо — еще не все, — произнес он.
Дверь в его комнату была открыта, и на пороге появилась мать. Ее волосы были растрепаны, она, по–видимому, не могла справиться со своим лицом. В руке она держала нож.
— Все трудишься над своим школьным заданием? — спросила она.
— Да, — ответил Воаз–Иахин. — Зачем тебе нож?
— Вскрывать письма, — ответила мать. После паузы она сказала: — Ты не должен питать ненависти к своему отцу. Он болен рассудком, душой. Он сумасшедший. В нем чего‑то недостает, какая‑то пустота, которую что‑то должно было заполнять.
— Я не питаю к нему ненависти, — сказал Воаз–Иахин. — Я, кажется, вообще не питаю к нему никаких чувств.
— Мы были слишком молоды, когда поженились, — сказала она. — Мой дом, дом моих родителей, казалось, давил на меня. Мне хотелось уйти. Но не туда, куда уходили все деньги, в пустыню, этот отцовский надел там был ложь, ему никогда не суждено было зацвести. Они просиживали все дни напролет в гостиной, слушая новости по радио. По воскресеньям узоры на ковре повергали меня в отчаяние, становились хищными джунглями, грозились поглотить меня. — Она провела рукой перед глазами. — Мы могли бы иметь наш собственный зеленый уголок. Я хотела, чтобы он стал тем, кем мог бы стать. Хотела, чтобы он использовал все лучшее, что было в нем. Нет. Вечно в сторону, вечно неудача. Вечно — пустыня и сухой ветер, что сдувает все с места. Я и сейчас еще ничего. Тогда я была красива. В ту ночь, когда я поняла, что люблю его, я заперлась в ванной и разрыдалась. Я знала, что он принесет мне несчастье, причинит боль. Знала. Твой отец — убийца. Он убил меня. Он вырвал у тебя твое будущее. Он сумасшедший, но во мне нет ненависти к нему. Он не ведает, что сотворил. Он пропащий, пропащий, пропащий.
Он вышла, захлопнув за собой дверь, и Воаз–Иахин услышал, как она неверными шагами поднялась по лестнице к себе в спальню.
Он завершил второй рисунок и спустился в лавку за очередным листом коричневой бумаги. Тут он увидел, что почти все карты на стенах в клочья изрезаны ножом. Ящики стола были выдвинуты, а все хранившиеся там карты сейчас в беспорядке валялись на полу.
Воаз–Иахин взбежал по ступенькам. Нож лежал на кроватной тумбочке. Рядом валялась пустая бутылочка из‑под снотворного. Мать его то ли спала, то ли была в беспамятстве. Он толком не знал, сколько таблеток было в бутылке.
— Укусить колесо — еще не все, — шептал Воаз–Иахин, набирая номер скорой помощи.
Иахин–Воазу приснился его покойный отец. Он умер, когда Иахин–Воаз только начал учебу в университете. Однако во сне Иахин–Воаз был совсем ребенком и присутствовал на отцовских похоронах. Вдвоем с матерью они приблизились к гробу, утопающему в цветах, которые источали сильный удушливый запах. В гробу лежал его отец. Его глаза были закрыты, лицо нарумянено, гладко выбрито и бесстрастно, лоб разглажен, лишь борода торчала вверх, словно дуло. Его руки были скрещены на груди, а в левой руке была свернутая карта. Она была свернута рисунком наружу, и Иахин–Воаз видел кусочек голубого океана, кусочек материка, красные, синие и черные линии, дороги и железнодорожные пути. По краю было выведено четким почерком: «Сыну моему Иахин–Воазу».
Иахин–Воазу хватило смелости не потянуться к карте, не вырвать ее из мертвой отцовской руки. Он посмотрел на свою мать и указал на карту. Она вытащила откуда‑то из‑под полы ножницы, отсекла ими кусок торчащей мертвой бороды и показала его Иахин–Воазу.
— Нет, — заявил Иахин–Воаз своей матери, которая каким‑то образом превратилась в его жену. — Я хочу карту. Она была оставлена в его левой руке, а не правой. Оставлена для меня.
Его жена отрицательно покачала головой.
— Ты еще слишком мал для нее, — произнесла она. Внезапно стало темно, и они оказались в постели. Иахин–Воаз потянулся к ней, но между ними гроб, он попытался его оттолкнуть.
Ночной столик с треском перевернулся, и Иахин–Воаз пробудился.
— Оставлена в левой, а не в правой, — повторил он на своем родном языке. — Оставлена для меня.
— Что случилось? — спросила Гретель, садясь. Они всегда разговаривали между собой по–английски. Она не понимала его слов.