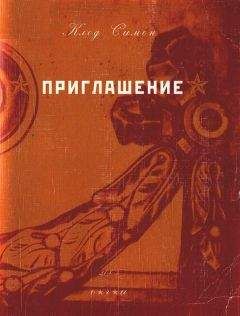И сейчас (прошло чуть больше года с тех пор, как предшествующий генеральный секретарь был предан земле, и все телекомпании мира показывали бесконечную церемонию (в этой стране и в соседних странах, вассальных или в той или иной степени ей подчиненных, она транслировалась от начала до конца), и миллионы мужчин и женщин, завороженных или любопытствующих (или просто безразличных, быстро утративших интерес, повернувших переключатель телевизора), могли видеть последний парад, гроб, свершавший под серыми небесами свой бесконечный путь по улицам столицы: открытый гроб, где из холма цветов выступало дряблое лицо, над ним — седые волосы, прядь которых иногда трепетала от ветра, рядом с погребальной колесницей в почетном карауле шли шестеро военных (по трое с каждой стороны) или, скорее, шестеро гигантов, шесть офицеров элитных частей, способных без малейших признаков усталости на протяжении многих километров на каждом шагу с ожесточением выбрасывать высоко вверх ноги в сапогах, до отказа вытянутые, негнущиеся, и сами они, негнущиеся, словно куклы-автоматы, ступали медленно, в такт романтическому похоронному маршу, звучавшему вновь и вновь — прошло чуть больше года (но казалось, что это отступило уже далеко назад) с той минуты, как вдова склонилась (или, скорее, ей помогли склониться, поддержали: она сама была очень стара) над лицом с закрытыми глазами, чтобы в последний раз поцеловать его, перекрестить перед тем, как гроб закроют, проходящие перед ним однообразные, нескончаемые ряды солдат, державших карабины с примкнутыми штыками, их параллельные друг другу лица, под одним углом обращенные вправо, а на той стороне площади (площадь, бескрайняя вымощенная булыжником пустыня, слегка выпуклая, голая, без единого фонтана или статуи, чьим единственным украшением было находившееся на одной из сторон возвышение, где терзали приговоренных к казни, да церковь с разноцветными, витыми, чалмовидными или ограненными наподобие бриллиантов колоколенками, брусчатка, по которой некогда ступали в торжественных процессиях священники с длинными бородами, в расшитых золотом одеждах, размахивавшие кадильницами, певшие низкими голосами псалмы, где привелось умереть призрачной славе завоевателя, окруженного маршалами в плюмажах, знаменами и армией, солдаты которой говорили на всех европейских языках…) выстроены гвардейцы лучших полков, стоявшие без оружия, юные, похожие на школьников в парадной форме, трижды выкрикнувшие слова прощания, которые унесла музыка, продолжавшая играть, так что видны были одни беззвучно открывавшиеся и вновь закрывавшиеся рты, как у рыб, откуда каждый раз вылетали (близилась зима, и уже было холодно) легкие облачка пара, новый генеральный секретарь, разделенный пополам парапетом верхней площадки куба из красного мрамора, на том месте, которое до него занимали бесчисленные старцы, в окружении высших должностных лиц, также рассеченных надвое; на него смотрел стоявший по его левую руку человек в высокой меховой шапке, с задумчивым, изможденным лицом, напоминавший старого усталого волка (даже не обязательно старого — просто изможденного; не обязательно расчетливого — просто задумчивого), новый генеральный секретарь, с непокрытой головой, лысиной, с удивительно моложавым, едва ли не младенческим лицом, в которое напряженно всматривались, пытаясь что-то в нем прочесть, миллионы мужчин, женщин, дипломатов, журналистов, записных аналитиков)… и сейчас, сидя у дальнего края этого стола, похожего на стол в обычной комнате совещаний какого-нибудь акционерного или другого типа общества, международного или иного банка, со столешницей, натертой до зеркального блеска, стаканами и бутылками минеральной воды, в комнате с голыми стенами, где не было ни одного портрета, ни его предшественников, ни его самого, он…
В продолжение всего времени, проведенного ими у подножия ужасной горы, они не переставали слышать поток. Он был там, невидимый, скрытый в низине, где росли тополя, недосягаемый из-за высокой и крепкой решетки, которой был обнесен парк с роскошными резиденциями, и, слушая его шум, немолчный и живой, можно было представить, как он без устали несет свои воды вниз, пенясь и подпрыгивая, выходя на свет неизвестно где, из какого-нибудь фантастического ледника, и наконец устремляется на равнину (равнина, иссохшая степь, где ему предстояло исчезнуть), преодолев теснины ущелий, спрыгнув с уступа одним, затем другим водопадом, еще сердитый, плещущийся, встряхивающий завитками водяной гривы, черно-серебряный, без конца переплетающий свои текучие косы, бурлящий, как если бы из недр древней и страшной горы непрерывно доносился глухой рык — голос какого-то чудовища, какого-то насмешливого, равнодушного оракула, знающего тайну, в которой нет тайны.
Понемногу они привыкли и друг к другу, и к своему положению, то есть перестали провожать изумленными взглядами волнообразную походку старшего из двух черных пасторов, удивляться его переливчатым шелковым платкам и его синеватому языку, как, впрочем, и черной икре, появлявшейся у них на тарелках уже на завтрак, и официантам с более или менее желтой кожей, в жемчужно-серой униформе, ослепительно белых пластронах, галстуках-бабочках и стоптанных башмаках, со всех ног бросавшимся менять им приборы, наливать чай или подавать разные сорта варенья (и напротив, когда самолет доставил их обратно из глубин Азии, они вновь оказались в гостинице с вытертой до дыр роскошью и спящими на ходу официантами, тоже потертыми, которые пропадали с заказом на целый час: но они приобрели привычку и к этому: ждать — ждать отъездов, встреч, начала церемоний), их уже не удивляла ни феноменальная говорливость хозяев, ни пространность их речей, где неизменно упоминалась (насколько вообще можно было уловить смысл за спотыкающимся бормотанием переводчиц) мудрость старых пастухов, легенды о духах гор и священной ауре озера, окруженного острыми вершинами — его именем была превыспренне названа их встреча (их свозили туда на день на самолете, маленькой винтовой машине, внутреннее пространство которой напоминало гостиную — гостиную для деловых людей или миллиардеров, с толстым ковром на полу, сиденьями в чехлах из небеленого льна, сборчатыми шторками, также из небеленого льна, закрывавшими иллюминаторы; глянув в них, можно было увидеть, как внизу, медленно поворачиваясь вокруг своей оси, один за другим открывая взору головокружительно отвесные склоны, величественно скользили наводящие ужас вершины, страшные ледяные стены, сверкающая пустыня, а комфортабельную гостиную меж тем наполняли ирреальные, громкие раскаты смеха, раздававшиеся вслед за шутками кинематографического Нерона (получившего английское подданство русского, проживавшего в Швейцарии: не переставая говорить, не поморщившись, так что ни его красивое, немного обрюзгшее лицо римского императора, ни голос не дрогнули, он залпом выпил один из стаканов водки — не стаканчиков: стаканов — которые поставила перед ними стюардесса: одним движением, опуская стакан на поднос прежде, чем она успела повернуться к другому гостю, продолжая начатую фразу начатой истории (он возвратился из Китая, куда ездил по приглашению, и комически изображал гортанные голоса тех, кто его принимал, и их ошибки в английском языке) совершенно таким же голосом и тоном, как если бы он всего лишь перевел дыхание или проглотил слюну, а никак не сто пятьдесят миллилитров сорокаградусного алкоголя, едкий, похожий на Нерона, столь же великолепно британский — каким может быть только русский, получивший английское подданство, — сколь и его волнистые серебряные волосы, сшитая на заказ рубашка, галстук, пуговицы на манжетах и костюм такого кроя и из такой ткани, которые можно найти только в Лондоне, у одного портного на Сэвил Роу).
Они (пятнадцать гостей) проводили свои собрания (или, скорее, их собирали, усаживали, после чего они ждали), сидя в глубоких креслах, расставленных подковой, в изгибе которой на председательском месте сидел широкоплечий человек с мясистым лицом горца, с жесткими, подстриженными ежиком волосами, который встречал их ночью в аэропорту. В первый день он говорил долго, важно, торжественно и старательно, нахмурив брови, выдерживая паузу после каждой фразы, чтобы переводчицы успели ее перевести, один за другим переворачивая листки с текстом своей речи, представлявшей собой коктейль из воспоминаний юности, речений стариков-горцев, восклицаний, обращенных к египетским пирамидам, романам Достоевского, красотам Венеции, Шекспиру, и призывов к миру во всем мире на заре нового тысячелетия. Затем он умолк, откинулся на спинку кресла, скрестив вытянутые ноги, локтем одной руки опершись о подлокотник кресла, ладонью поддерживая свою крупную голову, с как будто бы обиженным, оскорбленным видом слушая аплодисменты, чей треск послышался еще раньше, чем угасли голоса переводчиц, произносивших последнюю фразу его речи, выпрямляя спину, чтобы сверху вниз смотреть на аплодисменты, резкие, настойчивые, пока все не стихло и отражавшийся от склонов долины шум потока не заструился вновь, наполняя тишину своим терпеливым и нескончаемым шепелявым лепетом.