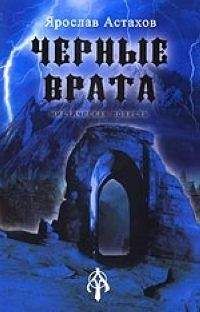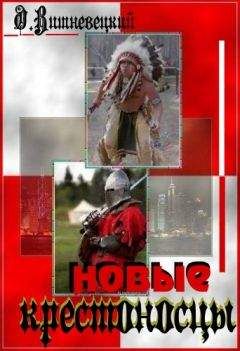– Вот ведь!.. – усмехнувшись печально, произносит Кудесник. – Чего никогда не понимал, это – как могут вещи подобные вообще всерьез обсуждаться? Ясное дело, конечно, что не еврей. Но до чего тупа сама-то постановка вопроса: национальность… у Бога?! Какие речи о земной плоти, когда разговор о вере, то есть о небесном и о духовном? – Так-то оно так, – вздохнув, отвечает ему Игумен. – Да только ведь не истина веры, конечно, беспокоила Врага и приспешников его. Нет, их устремление было как раз обратное: ошельмовать Православие. Дабы в конечном счете правую веру полностью извести. Затем-то и куются крамолы, то есть, чаще всего, – сознательно вполне приготавливаемая ложь! Хотят, чтобы произошло разделение, какое-нибудь нестроение в царстве правды. И слово ведь Самого Спасителя предостерегает, чем чают погубить духи злобы. Царство, разделившееся в себе, – не устоит… Вот в этом самая суть! Ложь ереси имеет целью разделение братии. Отсюда и желание представить Иисуса евреем. Ведь это значит – в сознании простого-то человека – оторвать веру правильную от русских корней! То есть разделить и несовпадающим, якобы, показать: то, что происходит от предков, и то, что исповедуется как истина. Да ведь и в сознании вообще всякого христианина, а не только русского, представление Иисуса евреем будет означать отсечение веры его от его корней. Потому что иудеи делают из своей национальной принадлежности религию, и от других народов держатся наособицу, как никто другой. [10]
– И вот, разделение совершилось, Врагу на радость, – продолжает Игумен. – Одни решили стоять за истину, а иные – за исконные корни, потому что начали полагать, что будто бы то и другое вещи различные.
– Но как они позабыли, – спрашивает Кудесник, – что прежде ведь жили мирно священники богов малых и служители Господа Иисуса Христа? На христианские праздники Верховный Волхв посылал Патриарху в подарок лики малых богов и камни со священными ведическими письменами. И камни эти устанавливались во храмах, во христианских, в особенные приделы. И также лики. И верующие, крещеные во Христа, почитали их. [11]
– Да, это были добрые времена согласия, – отвечает Игумен. – Исконный благой обычай, о котором ты говоришь, помнили, покуда не прокатилась по всей Руси реформа никонианская. То есть, пока не переписали церковнослужебные книги по греческим образцам. Не пойму, как только не различили лукавства, прокравшегося с этой реформой? Ведь есть же на Руси поговорка: в чужой монастырь со своим уставом… Ты вот подумай: по византийскому храмовому канону – можно ли с благодарностью принимать камни рунические, лики малых богов? Да какое там! Они ведь даже иконописный лик Самого Христа, и Матери Его, и ангелов Его и святых почитать едва научились! Ведь Византия лишь с великим трудом очистилась от ужасной ереси – от иконоборчества . [12] Да сколько еще мучеников у них при том было.
Потрескивает костер… Перегорели, наконец, ветви – и развалились на головни. Усталые языки пламени невысоки, но угли обещают еще немалое время продержать жар.
– Ты так все хорошо понимаешь, отец, – говорит Кудесник, следя за игрой огня. – Зачем же ты тогда сомневался все поначалу, подозревая в нас язычников, нехристей?
– Так этого ж и надлежит опасаться в первую голову! – вскидывает глаза Игумен в упор из-под кустистых бровей. – Язычество – это новодел. Его на нашей земле ведь не было никогда, как ты это и сказал. Которое теперь называет себя язычеством – это, часто, посписано все с черных масонских книг да подмалевано «а ля рус»! [13] Враги исконной веры во Триединого жаждут представить наших предков духовно убогими. Как разобщенные племена, поклонявшиеся только малым богам. А то так и вообще лишь какому-нибудь одному своему местечковому племенному богу. Как будто праотцы наши подобны были дикой орде, кочующей по пустыне! Или какому-то племени африканских людоедов… Знаешь, для чего это приспешникам Врага нужно? Да чтоб необратимым сделать раскол! Послушные Врагу хотят уничтожить память, что веровали на Руси в Триглава Великого, что русский ведизм сутью своей имел ведение о Боге Триедином Всевышнем. Покуда память эта еще хранится, можно легко увидеть, что мы теперь, поклоняясь Троице Пресвятой, совершаем не иное по сути, нежели праотцы. А значит остается у нас возможность еще понять, что основания для раскола нет, а надо нам лишь окончательно преодолеть на Руси ересь евионитов. Но если вдруг существенная часть народа и впрямь поверит в это закамуфлированное растафари как в наше прошлое…
Игумен тяжело вздыхает и только взмахивает безнадежно рукой.
– Да, это сделало бы положение безвыходным, – соглашается Кудесник. – Разделение бы стало непреодолимым тогда, а «царство, разделившееся в себе, погибнет». И Враг дождался бы крушения Православия. Но… не хватило терпения у него ждать, как видно. Теперь для укрепления и дальше этого духа раздора просто нет уже больше времени. А значит не особенно и важна дальнейшая судьба этой лжи сейчас, в последние времена.
– Вот именно! – вдруг произносит громко Майор, зевнув. Она задремала, было, но пылкое окончание речи Игумена потревожило ее и вернуло к бодрствованию. – Чего я никогда не понимала в мужчинах, так это почему они так любят поговорить, поспорить об отвлеченном? О всяких не имеющих практического значения высоких материях? Вы оба в этом настоящие чемпионы, как я смотрю! И что вас только сюда-то понесло – по горам скакать? Заумные беседы было бы сподручнее вести с какой-нибудь кафедры.
– А ты сама-то почему здесь, – поворачивается к ней Кудесник. – Проснулась, так уж расскажешь, может быть?
– Я…
Видно, что Майор не ожидала вопроса.
Да и не задавала его себе. И в этот миг ей самой вдруг делается интересно понять на него ответ. Наверное, она избрала свой путь не столько по рассуждении, сколь под влиянием неоформленного, но непреложного и решительного импульса к действию. Под знаком некоего «так правильно!», которое проступило, вдруг, в ее сердце.
Ее лицо изменяется. И нет уже более того, что Кудесник зовет про себя «боевая маска». Костер дает еще достаточно света, но поначалу Кудесник даже не в состоянии прочитать, что это за новое выражение у нее теперь. Потому что Кудесник даже и не предполагал когда-нибудь прочитать на этом дерзком лице – смущение.
– То единственное, что я научилась делать более-менее хорошо, – говорит, наконец, Майор, – это защищать людей ото всяких гадов. Не спрашивайте, почему вдруг такая неподобающая профессия для женщины. Все это весьма печально и это… никого не касается… Так вот. Если уж оно все равно идет все к концу – чего же сидеть и ждать? Мне бы хотелось умереть также, как я жила. Делая то единственное, что я умею.
Кудесник и Игумен молчат.
Если у кого и была сонливость, ее как рукою сняло.
– Я тоже более-менее научился защищать людей от врагов, – говорит, наконец, Кудесник. – Мне тоже бы хотелось умереть также, как я и жил.
– Всю жизнь я просил у Бога дать силу мне для защиты душ человеческих от Врага, – говорит Игумен. – Теперь от христианина нужна жертва. Я верю, что, если моя жертва угодна Богу, Он даст мне силы и честь принести ее.
Игумен взглядывает во тьму каньона поверх костра. Затем он придвигает к себе котомку – и он извлекает из нее напрестольный крест. Игумен поднимает крест над собою и над огнем, и над склонившимися к нему друзьями, и произносит:
– Боже! Благослови…
Пунктирная тропинка едва заметна. По левую руку от идущих простирается равнина шепчущихся высоких, состарившихся под солнцем и ветром трав.
По правую лежит бездна.
Это каньон – глубокий и на редкость широкий. И видно постоянно верхнюю часть дальней стены его: безжизненные светло-серые склоны, изламывающиеся складками и почти отвесные. Их кое-где пересекают более темные размытые вертикальные полосы, расширивающиеся к низу: в этих местах сошли оползни.
– Не надо подходить слишком близко к самому краю, – нарушает молчание Кудесник. – Насколько я понял карту, что была в Книге, именно вот этот каньон и представляет собой дорогу, ведущую ко Вратам. И этот путь охраняется, надо думать… Я чувствую присутствие врагов… Не нужно, чтобы они узнали о том, что мы здесь, раньше, чем придет время.
– Однако хорошо бы увидеть, какими силами охраняется, – говорит Майор.
С этими словами она решительно останавливается и вдруг становится на колени. И сразу же затем она быстрым, но вместе с тем и каким-то плавным движением ныряет в заросли трав. Сухие стебли шелестят едва ли много сильнее, чем до того под ветром.