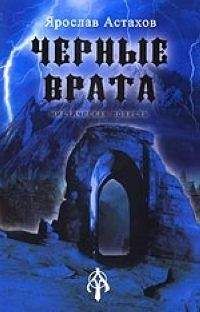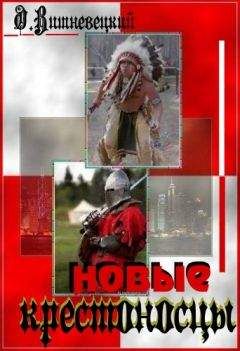– Кажется, ничего не считывается, – говорит им Кудесник. – Почти уверен, что это не маскировка. Похоже, что их здесь действительно нет… пока.
– Я думаю, мы могли бы стать лагерем при устье этой расселины, – прибавляет он, отступив назад. – Попробуем оставаться незамеченными и у нас будет возможность немедленно начать действовать, как только наступит время… Смотрите, вон, кажется, подходящая ниша в этой стене!
…Они сидят в этой нише. Они втянули головы в плечи и запахнулись, как можно более плотно, в свои одежды. Все трое напоминают старых, нахохлившихся от холода воробьев.
– И как здесь мерзко знобит! – капризным и раздраженным голосом говорит Майор. – Я продрогла, когда еще мы только спускались в этой дурацкой трещине. Я думала тогда, что пакостнее уже некуда, а теперь…
– Давай-ка разведем костер, дочка, – предлагает Игумен. – Келейник навязал мне с собою несколько коробков спичек. Хоть я и говорил ему, что не нужно. Я буду рад, если от них все же сделается какой-то прок.
– Ну, с днем тебя рожденья, святой отец! – язвительно и с обидой отвечает Майор, не желая сменить пластинку. – А как же яркие отсветы на противоположной стене расселины, что могут быть замечены из каньона? О дыме я уже и не говорю.
– Согреемся и без дыма, – произносит Кудесник, положив на мгновение руки на плечи спутникам. – Давайте сядем вот так… Или, если так не удобно – так. Давайте станем смотреть… вот на эти камни. Они на равном расстоянии от каждого из нас, они близко. У этих камешков соразмерные очертания и, от созерцания их, нам хорошо и спокойно… Теперь закроем глаза. Но так, чтобы на эти камни все равно остался направлен умный, наш сокровенный взгляд. Есть? – А теперь, – с какою-то особенной силой, с энергией отрешенного покоя продолжает Кудесник, – …теперь давайте представим, что на этих камнях горит огонь. Сосредоточимся все на этом. Не в жажде сотворить чудо. Только – призывая быть нашим гостем… силу – властительницу воображения. Не думаем ни о чем. И благословим усталость, что дал нам путь, потому что она поможет не разбежаться мыслью. Не надо верить… не надо и сомневаться… просто – мы хорошо и спокойно знаем про сей огонь.
Все трое в нише молчат. У них закрыты глаза, их руки сложены на коленях.
У всех, за исключеньем Кудесника. Его ладони подняты вверх и простерты чуть-чуть вперед. Как если бы он их возложил на поверхность незримой массивной сферы, которая лежит меж троими в нише.
И через какое-то время на пяточке меж Майором, Игуменом и Кудесником начинает – над запыленными темными камнями – вздрагивать воздух. Как будто над огнем костерка. И это дрожание делается все сильнее, шире… Но пламени никакого нет, или пламени, по крайней мере, не видно глазом. Троих соратников по-прежнему укрывают плотно сгущающаяся все больше тень. Суровый ненарушимый сумрак стоит в расселине.
Но холода уже нет! И трое, не смея раскрывать глаз, остерегаясь испугать ощущение, устраиваются поудобнее, чувствуя близкий трепет и ток тепла.
Майор в приятной истоме, она согрелась. И даже кажется ей, что, будто бы, слух различает уютную и тихую болтовню потрескивающих угольев.
– Вот вы тут собрались такие умные мальчики, – кокетливо слегка и с улыбкой, все также не открывая глаз, говорит Майор. – А можете ли объяснить глупой девочке одну вещь? Вот почему он взбесился, я хотела бы знать? Ну, то есть… с чего же они все-таки наступили-то – последние времена?
– А потому и бесится, что он бес, – бурчит, сквозь подступающую теплой волной дремоту, старик Игумен.
– Но есть ответ и точней, – произносит неспешно и тоже не открывая глаза Кудесник. – Написано в нашей Книге: битва… Последняя… получится оттого, что злой Чернобог соделаетсясовсем безумен.
– Безумец? Ой ли уж? – вскидывается Игумен, открывая глаза. – Лишится ума тот самый, о коем сказано: «лукавый» и «хитрее всех зверей полевых»? [14] Нелепость тут какая-то получается, твоя воля! Ты что-то перепутал, наверное. Или переписчик у твоей Книги ошибся, может быть.
– Нет, это не так, отец, – отвечает старцу Кудесник. – И список у меня верный, и вот, учителя я переспрашивал трижды как раз про это, чтобы убедиться, что точно понял. А просто это долгая история. Если ее рассказывать обстоятельно и с самого начала, то станет ясно: нет ничего нелепого в том, что чернобогова судьба – впасть в безумие. И даже сделается понятно: это неизбежный конец для того пути, по которому пошел этот малый бог.
– Что ж, рассказывай.
– Когда-то Несущий Свет не был зол, – говорит Кудесник. – Он был тогда одним из нормальных малых богов. И не отличался ничем особенно от остальных одиннадцати. Его дар, полученный от Бога Всевышнего, заключался в том, что этот Несущий Свет разрушал отжившее.
И в этом не состояло зла. Такое сокрушение только помогало вновь наступающему дню сменять уходящий день. Огонь сего из Двенадцати напоминал тогда ясный свет утренней зори, а не чадящий тьмою зловонный факел. Поэтому его тогда звали – Денница. И свет его напоминал еще пламя, в каком сгорают черновики. То есть, Утренняя Звезда стоял на страже свободы каждого совершенствоваться в своем искусстве. Его особенный дар обеспечивал всякому духу, что со-творит Вышнему, свободу приобретать все больше Его подобие…
Но вот однажды Денница вдруг ошибся. А именно, он решил, что будто бы способен творить и сам, не опираясь на силу Вышнего. Он пожелал свободы от Всеотца, позабыв про то, что именно Триединый и представляет Собой способность и волю к творчеству и свободе всякого вообще духа! Свободы нет без единства. Денница перестал быть белым, то есть единым. Поэтому мы стали называть его Чернобог: в отличие от иных прибогов, которые остаются и поныне «белые боги», как мы их величали всегда, потому что они пребывают едиными со Всевышним.
С чего ж он так возгордился, что это затмило разум его, светлый некогда, и он совершил ошибку? Возможно, этому способствовала сама особенность его дела. Ведь все же сокрушалось, все распадалось при его приближении прахом к его ногам! Какое завораживающее зрелище!.. Денница позабыл, что видит перед собой предназначенное к прекращению Свыше – желающее вольной волей своей исчезнуть, дабы иметь возможность родиться заново, в новом качестве.
Отсюда ли взялась гордыня его, или от чего-то другого, но именно она привела Несущего Свет к ошибке. Она же помешала ему немедленно и смело, честно в этой ошибке своей покаяться. Денница вместо этого стал упорствовать в заблуждении и он сделался – сатана.
Тогда-то выработал он хитрость. Стяжал прозванье Лукавого, потому что ему понадобилось представлять свои закономерные дальнейшие неудачи как недоразумения лишь, а то так и достижения.
Он в ослеплении обещал пошедшим за ним, что у него получится творить и без Бога. Но вызвать к существованию он сумел только нестроения, мятежи и войны. А это все разновидности ущерба, но вовсе не созидания. И этот ущерб усиливался. Потому что ошибка, если она останется нераскаянной, со временем всегда порождает ошибку большую. Но некоторое время черному богу все-таки удавалось – за счет лукавства – более-менее сохранять лицо.
Но вот явился Иуда.
Такого следствия от ошибки первой – далекого, но тем не менее неизбежного – не ожидал и сам сатана! Ведь черный бог все-таки не предавал Вышнего. Да, он согрешил отпадением от Него и этим породил зло. И зло это – то есть отдаление от Бога – закономерно усиливалось, нарастая как снежный ком… Но предал Бога не он. Это уже был иной порядок, новое качество. Простой еврей сотворил нечто более плохое, чем Основоположник Зла. [15]
Ведь даже у одержимых злом не в чести предательство. И даже сатана проклинал Иуду! [16] На что Иуда улыбнулся ему в лицо: я твой ученик…
Деяние Иуды обнажило ошибку черного бога – ошибку всего пути. Ибо ведь лишь изначально выморочное древо может принести такой плод, и никакое лукавство не поможет уже закрывать глаза на эту очевидную истину. И тем не менее закоснелая гордыня вновь помешала Чернобогу честно раскаяться!
Но после этого-то сатана и начал сходить с ума. Иуда – его позор; Иуда вызывает отвращение у него, но ведь признать это – означает признать ошибку! А этому мешает гордыня. И черный бог раздираем противоположными страстями, разными двумя волями, почему и называется он диаволом: двоевольцем… В начале прошлого века сатана побывал в Москве. Он сотворил там больше добра, чем зла. Но ведь это [17] – как перепады настроенья у сумасшедшего.