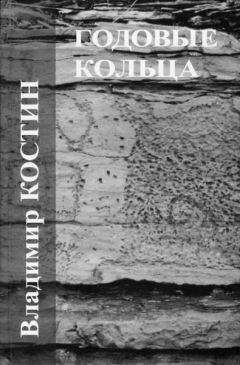СОСТАВИТЕЛЬ: Году в 1936-м по переулку случайно прошел Поэт, из привычно нездешних. Захолущенный до тины город принял в ту пору тысячи пережитков из Расеи, чтобы они не пустили отравленные побеги в чистом саду Коммуны и (поскольку русские-де люди) не миновали нареченных сумы и тюрьмы.
Заслали их сюда по явному недосмотру. Город и без них был редкостным сосудом махрового мещанского православия, ставши таковым потому, что знавал лучшие времена, а великие стройки обошли его стороной, и души находили утешение в том, что подсказывал ближний опыт, а не газеты. Получилось забавное смешение и взаимопонимание этих и тех. А новоселы, люди не первой свежести, время от времени не могли не забываться и говорили то, что думали.
Запахло нищей вольницей, катакомбами. Тогдашний руководитель края бился в истерике и вопрошал ЦК: за что?! ЦК прислушался и в пару лет исправил свою ошибку, методично сровняв всю эту публику с землей. На всякий случай к ней подверстали и самого руководителя края: надышавшись флюидами монархизма и соблазнившись собственным именем, Руперт Индрикович Райхе вошел в преступные сношения с гестапо.
Порывистый ветер эпохи забросил Поэта сначала на север таежно-болотного края, потом сюда, в годуновский город. По своей воле он сюда, конечно, бы не приехал. Он, скрепя сердце, переселился бы из Питера хотя бы в Германию, хоть в Любек, да кто бы дал. Границу давным-давно заперли заветным кощеевым ключом.
Происходил он из онежских крестьян и весь свой век, надо сказать, не без модничания, пел добротканую тишину лесов, золотую бревенчатую избу, сосен перезвон и староверное собеседование с Христом, покровителем землепашцев, рыбаков и добровольных во Имя Его погорельцев. Пел Корову земную и Корову небесную, пел Лошадь и Сига. Однако, не любя историю, обманываясь в ней, в недобрую минуту (впрочем, не без лукавства) усмотрел в Ленине керженский дух и аввакумов порыв.
Он знавал лучшие годы, славу столиц, не упустив в них разнежиться; заметно пощеголял; заметно повещал-попугал закатный цвет нации на манер то ли «Голубиной книги», то ли Распутина; заметно побаловался с мальчишками.
Зато сумел выучить-вырастить другого Поэта, называемого великим русским. Тот оказался не жилец, не вынес «каменной скуки», задохнулся среди назойливых, липких душегубов. Его смерть состарила онежанина на несколько поприщ. Он стал стремительно дряхлеть, уязвляемый скудным языком улиц, нуждой, непривычным одиночеством, страхом перед свирепой властью и собственной, страшно посуровевшей, как царевна Несмеяна, совестью. В пятьдесят лет он смотрелся на все семьдесят, засыхающей отломленной ветвью ракиты, отставным пономарем.
Зато, за все то, страдания помогли ему сотворить такое, о чем он и мечтать было перестал — Главную, безупречно-великую поэму о мужицком Окоеме, о северном дыхании, о чистоте уклада, уходящего в багровые сумерки. Погибель была теперь надежно обеспечена, он догадывался, но счастье Поэта того стоило.
Он жил тогда на склоне Воскресенской горы, квартирантом у добрых людей, и его стежки-дорожки в основном были богомольно короткие, до храма и обратно, и удлинялись в те редкие случаи, когда его звали пообедать. Он очень нуждался, потом придумали, что он просил милостыньку на паперти Троицкого собора. Это неправда, на паперть он ходить остерегался ввиду чужих злых глаз, а ходил на Каменный мост, где ему подавали кто луковку, кто сухарь.
Но от обеда он отказываться не мог и плелся куда позовут, больной, на слабеньких, соломенных ногах, с часами-луковкой же в руках. Сверялся с ними, чтобы не прийти раньше срока, потому что на всякий случай выходил много загодя.
В переулок он попал по заблуждению, взявши после мостика через речку Ушайку не вправо, а влево. Одетый, несмотря на лето, в ватную курточку и заячий клобучок, он брел по вязкому песку, приседая на каждую попутную лавочку. Сильно захотелось пить, и он постучался в калитку, за которой услышал голоса, женский и младенческий. Вышла молодая, резвая женщина.
Дай водички, милая. Она вынесла ковшик с ледяным квасом и, пока он пил, успела его разглядеть и укоризненно сказала:
— Что ж ты, дедушка, такой запущенный? Старуху похоронил?
— Похоронил, — согласился Поэт, вечный бобыль. — Как тебя зовут, пролетарочка?
— Агафья Васильевна.
— Спасибо, Агафья Васильевна, салфет вашей милости.
Но она не знала обычая, не поддержала, ответила сухо:
— Живи, старичок.
Они забыли друг о друге сразу. Она — потому что пошла купать дочь в корыте на солнышке; он — потому что через несколько тихих стежков нашел в песке деревянный пастуший рожок.
Поэт поднял его, умиляясь. Поживши в Нарыме и Колпашеве, он уже уяснил, что здесь рожков, или дудочек, или жалеек не делали. И этот рожок-игрушку, должно быть, смастерил для своего чада родитель, сосланный сюда из лесной Руси.
Захват рожка был окольцован прикусом крошечных детских зубок. В дырочки густо набился песок. Поэт вытряхнул его и положил в карман, сдержав желание проверить рожковый голос.
«На входе в городские звенья, в соленом песке лежит черемховое дитятко, родимый пастуший рожок, забитый землей. На нем следок нежных уст пастушонка. Лежит, как камень преткновенья, лежит артикулом забвенья.
Где ж сам обронивший его пастушонок, неужто сгинул, недомоленный суслонок? По всей Руси пошли во прах рожки, опушки и луга вождятся жестяным рупором; ни людям, ни коровам не личны песни о ясной зорьке и живой воде. Напротив, напротив, особенно нестерпим этот кроткий голос покляпому слуху одержимых и немилосердных. Их, видно, бесит, слуг Динамо, что на этой свирели играл сам Христос, нисходя в наш оржаной и смоляной окоем.
Я что этот рожок. И брошен, и растоптан, горло мое забито песком, и никто меня не слышит. Новых лаптей не плету, немо встречаю закат и мечтаю только найти свой сладкий смертный час, скрывшись от них в толпе усталых побирушек».
Так задумался Поэт, такое спасение себе вымаливал, но скрыться от них ему не удалось. Пока стихотворение возилось, толкалось в нем, набирая звонкую грусть, обрастая рифмами, его арестовали в последний раз, подержали в тюрьме, подкормили и расстреляли на карусели.
Он был настолько болен и хил, что в НКВД его не стали бить — бесполезно, он отошел бы от одной средней затрещины. Поэтому он умер нераскаянным. Вместо подписи в его следственном деле след птичьей лапки, родной онежской сойки. Никто не пострадал от его показаний. В перевранных, подогнанных под хамский язык протоколов ответах не остыло упрямое, наивное, прекрасное недоумение перед подлостью.
АГАФЬЯ: Володе исполнилось восемнадцать лет, он изучал филологию в здешнем, чем-то знаменитом университете. По-своему милый и по-своему глупый мальчик. Он поторопился признаться Ляльке, что хочет к тридцати семи годам стать великим ученым и поэтому для начала собирается проработать все пятьдесят пять томов сочинений В. И. Ленина.
— Почему к тридцати семи годам? — спросила его Лялька.
Он посмотрел на нее со снисходительным умилением:
— Потому что в этом возрасте погиб Александр Сергеевич Пушкин.
Тут у них созрела первая размолвка. После этих вещих слов он взял многозначительную паузу и вытаращился в окно, в огород, на бочку с дождевой водой. Лялька в простоте своей подумала, что он тонко пошутил и зафыркала, уронила стакан с чаем на пол, и он разбился. Пришлось ей с минуту держать мальчика за рукав и шестнадцать раз назвать его Вовочкой, пока он не отмяк, не разулся и не вернулся к столу.
Глупость его была какого-то девственного свойства. Одинокий мальчик при очень, очень занятых интеллигентных родителях, прячущийся в домашней библиотеке. Книги он не то чтобы читал — он ими питался, прочесывал их, как саранча. К нему не приставал никакой опыт, впечатления соскальзывали с него как со стеклянного. Все искушения ждали его впереди, и пороки, должно быть, созреют невидимо, незаметно. Из таких отроков вырастают гадкие, инфантильные карьеристы.
Но когда он видел Ляльку, его трясло и подбрасывало — буквально. Стоит, худенький, остроносый, пушок на верхней губе. Губы тонкие, красивые, уши маленькие, игрушечные. Стоит — прячет руки в карманы, не то из гордости, не то для того, чтобы не выдали.
Житейски подслеповатый, душевно неуклюжий, не задаст лишнего вопроса, но, самый среди нас образованный, не умолкает, разглагольствует, просвещает нас, темных, в том, что вчера прочитал по «программе» — вот Гомер, вот Софокл, потом Вийон, потом Шекспир. И ведь несет чушь-чушью. Тот же Авося, заставь его под палкой «Гамлета» прочитать, понял бы больше, хотя бы по своей подлости. А Володя? Нет, язык хороший, не уличный, даже с претензией. Но там люди любятся или режутся, а у него «образы», «типы», «социально-исторические условия эпохи». Это их профессора научили — левой рукой правую пятку чесать.