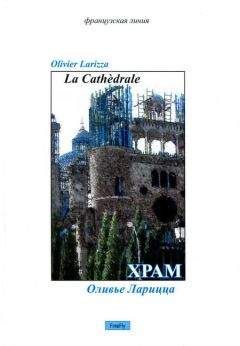— Вы — инопланетянин, Фернандо, ЭнЭлО. Такое придумать можете только вы.
— Ошибаешься, мой мальчик. Почему ты думаешь, что хлеб — пища преимущественно библейская?
— Но ведь вы только что рассказывали о том, что написано в Библии?
— Ну, не совсем так, как я тебе рассказал, но там на самом деле об этом есть упоминание.
— А как вы об этом узнали? Вы же не умеете читать!
Фернандо опустил взгляд, словно я уличил его во лжи. Когда он опять посмотрел на меня, в его глазах уже не было прежнего задора, в улыбке появилась горечь.
— Джильда мне иногда читала Библию, потом я слушал Библию во время мессы…
— Почему же сестра вам ее больше не читает?
— Бог накрыл пеленой написанные слова.
— Так это вы говорите о катаракте! Ее можно прооперировать…
Но он уже не слушал меня. Я понял надлом старика, который тот скрывал, так поступают его ровесники, люди его поколения: они редко жалуются, они соглашаются. Застенчиво. Фернандо не знал грамоты, поэтому остался без прихода, но комплекса неполноценности у него не было. Он больше страдал оттого, что не может читать Библию, которую нежно любит и откуда черпает смысл своего существования, жизненную силу каждого дня. Будучи безграмотным, он между тем собственными руками возводил собор! То, что для меня было проще простого, ему казалось неприступной горой. И то, что в моем понимании было феноменальным подвигом, для него — привычным делом. Мое отчаяние и его прореха, в каждом из нас зияла пропасть. Нам выпало по очереди становиться спелеологом души другого.
Почти три недели я бродил по Мадриду. Точнее, там блуждали мои призраки.
Они не давали мне уснуть по ночам, вымывали солеными слезами глаза, вызывали во мне горечь и гнев. А еще — нестерпимую боль оттого, что чудилась мать, зажатая в своем теле-карцере, сознающая, как превращается в жалкое существо, наполненный «чудесами» скелет. И это — моя мать, которая всегда весело хлопотала по дому, чистила его до тех пор, пока тот не засверкает тысячами огней, подолгу бывала в обществе «Красного Креста», где бесплатно оказывала услуги парикмахера малообеспеченным людям… Образы наплывали один за другим, истязая меня и создавая страшную путаницу в голове. Тогда я вспоминал, как протянул ей руку, чтоб она достойно ушла из жизни. Я был убежден, что поступаю правильно: она ушла на небо, гордясь мной. Но как внушить это живым, тем, кто остается рядом, судит и с кем надо считаться? Оставаясь один на один со своим огромным будущим, я покрывался испариной.
По утрам тошнотворная ясность проникала через темно-красные шторы на окнах. Я долго просыпался, глядя, как она сжижается вокруг меня, на сухом и холодном, как пустыня, постельном белье, на стенах, где она создавала рой встревоженных пчел, натыкавшихся на границы реальности. Это походило на пробуждение во вражеской стране или после ночи любви рядом с девушкой, которую не любишь, тело которой теперь — когда привлекательность ночи исчезла — отвратительно. По правде говоря, все было намного хуже, ибо сама ночь потеряла какую-либо привлекательность, она меня пугала как непристойный вздор с безобразными руками в виде щупальцев спрута. Обычно эротизм ублажает призраков. Но когда ты забыт Богом — я имею в виду сиротство, — это сродни зияющей ране, той, что ноет до невыносимой боли, до разрыва души.
В те минуты, когда вдруг идешь ко дну, наконец-то задумываешься о бесконечности вселенной, звездах, космосе. Ставишь человека на его место: прах и пыль, земляной червь, крошечное средство передвижения, которое однажды и в самом деле должно прекратить двигаться. Утешаешься непредвиденными метафизическими случайностями и все равно не можешь смириться. Ведь ей было всего лишь пятьдесят три года! И снова бунт против этого вероломства, в котором главную роль сыграл наследник. Диву даешься, как траур вообще возможен. И молча воешь. Затем гнев медленно стихает, хоть знаешь, что позже он вспыхнет вновь. Угнетает квадратура круга, сковывает.
Единственный способ постичь траур — сравнить его с собором дона Фернандо. Возможно, как и он, я никогда не завершу начатое. Так же как и ему, мне предстоит раствориться в творчестве и принять, что это будет долго мучить меня, может, всю жизнь. Ведь я вырос в обществе, которое упивается высокими скоростями и не приемлет таких проволочек, как тот компьютер, что тормозит, электронная почта без ответа, очередь в кассы на почте или получение багажа в аэропорту… Раздражаешься от мелочных ожиданий, не понимая того, что из-за этих раздражений сталкиваешься с самим собой и закладываешь основание столь же раздражительного мира. А надо так мало — просто запастись терпением и ждать разрешения открыть самого себя, свои сокровенные желания, вместо того чтобы выплескивать инфантильные побуждения. Наблюдая за стариком, я стал меняться, вновь создавать себя, кропотливо, медленно, даже томительно. И если синдром Питера Пэна минует меня, вот тогда уж точно сумею состояться.
В это утро пришло озарение: свершилось то, чего до сих пор я был не способен осуществить. Ну конечно же, раньше, в студенческие годы моя жизнь била ключом: поездки по Европе, Южной Америке и особенно в США. В двадцать лет, подталкиваемый февральским небом, столь же угрюмым, как мое в то время сердце (разочарование в любви), я поддался наплыву то ли глупости, то ли здравомыслия и уехал во Флориду без ведома родителей (мать сходила с ума от переживаний) со скромными сбережениями в кармане и двумя книгами в рюкзаке: «На дороге» Джека Керуака и «Мартин Иден» Джека Лондона — красной розой, по мнению моего друга Эрика. Пять месяцев я жил в Джексонвиле. Как-то вечером, на третий день своего пребывания в городе, я повстречал в баре замужнюю женщину на восемнадцать лет старше меня, очень богатую; что касается денег и одиночества, наши горизонты пересеклись на гамбургере с грибами. Спустя два дня она меня «нанимала» в рекламное агентство, которым руководила. Завязалась знойная любовная история, несмотря на мужа, которому я сочувствовал и который водил меня то в казино, то в заведения со стриптизершами… С обнаженным торсом и банданой канареечного цвета на голове я проигрывал свои двадцать лет на баскетбольных площадках вплоть до наступления сумерек. У меня было помрачение.
Теперь, когда мне тридцать три, на губах кислый привкус собственного несовершенства. Ни жены, ни ребенка. И уже нет мамы. Бессознательно увеличиваю количество встреч, приключений: соблазняет новизна, нерешительность, потрясение, все то, что обычно испытываешь на пороге открытия, которое усиленно пытаешься представить. Все то, что кроется в другой личности, в другом теле. И еще — моя необязательность. Только однажды я начал было совместную жизнь с девушкой, полагая, что люблю ее, да, собственно, и вправду любил, но нас хватило лишь на три месяца. Рутина повседневной жизни уничтожила наши отношения. По крайней мере, я не сумел побороть утомление от ежедневно повторяющихся бытовых проблем, от привычки, которая пугает мужчин и которой они бессильны противостоять, несмотря на призывы своей подруги. О, эта ужасная мужская инертность к совместной жизни… Я избегал долгосрочных обязательств, так как мне они казались отречением от всех других прав. И в профессии происходило нечто подобное: работая над альбомом лондонских звезд, я не осмеливался дать полную свободу своим настоящим предпочтениям, тем неугомонным стремлениям, что шевелились во мне: литература, книги. Одно время я мечтал стать писателем. Но материальные возможности, обоснование и давление отца увели меня в другую сторону. Я выбрал удобную профессию, хотя она меня не увлекала. На самом деле, не желая отказываться от тех праздников, что может предложить жизнь, я отрекся от себя самого. И вдруг мои мечты проявились сейчас, когда я потерял единственного человека, с которым прожил вместе так долго. Неужели это было началом моей зрелости?
— Так, где же ты научился говорить по-испански, странник?
— В университете, Фернандо. Впрочем, испанским увлекся благодаря велогонке Тур де Франс. Еще подростком я был страстным поклонником чемпиона из Наварры Мигеля Индурайна, которым восторгалась вся ваша страна. Но вы конечно же можете его и не знать…
— Я на самом деле его не знаю.
— Этот гигант, отличавшийся невероятной скромностью, пять раз становился победителем гонки. А чуть позже я познакомился с девушкой из этих мест. Вот тогда я смог улучшить…
— Вы обвенчались?
— Ну вот еще! Мы встретились на Мальте в университетском общежитии. Она так же, как и я, приехала совершенствовать свой английский. Хотя на этом солнечном острове лучше получается нечто иное…
— То есть?
— Ну… это — не для вашего поколения!.. Полгода, проведенные на Мальте, — это как в фильме «Испанская турбаза». Как бы вам объяснить? Съезжаются студенты всех национальностей: немцы, голландцы, греки, русские, чехи… Специально для наших вечеринок итальянец Джорджио готовил макароны; потом развинченной походкой в ритмах сальсы мы все дружно кочевали почти до рассвета по ночным клубам Пасевилля, потягивали коктейли «пина колада», и наши потные тела лоснились в неоновом свете уличных фонарей. А после мчались на усыпанный галькой пляж, чтобы под звуки гитары, игравшей мелодии песен Боба Дилана и «Лимонное дерево» Гарден Фулс, опять переделывать мир…