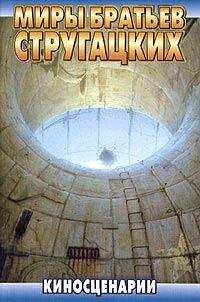Перспектива у нас одна – смерть. Принимать совершенно всерьез гипотезы о загробном существовании мне мешает одно соображение: их порождает отчаяние. Заметьте, я не утверждаю, что одно лишь отчаяние, но отчаяние – исправно. Сейчас входят в моду разнообразные тесты, когда вслед за задачей даются варианты ответов. И тут мы имеем дело с задачей невероятной сложности и глубины, которую мы не только не в состоянии решить, мы и готовый ответ подставить в нее не можем. Выручает лишь то, что в списке готовых ответов всего один вариант. Мы его ничтоже сумняшеся подчеркиваем, но ни заслуги, ни ответственности в этом жесте нет.
А если и есть потустороннее существование, то каково оно и не гаже ли и злее этого бестолкового, но трогательного мира? Ведь согласитесь, есть такие мгновения уходящей натуры, будь то гаснущий день или стынущая осень, которые так и хочется удержать, – и стоишь в какой-то прострации, а мимо виска свистят экспрессы, а иногда и пули… впрочем, Тютчев Федор Иванович об этом вполне состоятельно написал.
Я лично знал трех человек, которые лично знали Тютчева.
Ну и что?
Интереснее и честнее ретроспектива. Оглядываясь назад, я вижу отнюдь не руины, а величественные храмы и веселые частные коттеджи. Патина небытия, линза времени – весь этот нехитрый инструментарий прекрасно сохраняет их от тления. Мерцание памяти – вот единственный их враг в колодце прошлого.
Леня Андреев был еще тем неврастеником.
Он глушил неврастению алкоголем и хотел остаться в памяти прогрессивного человечества как алкоголик (ну, опуская ярлык писателя), но в основе своей был не алкоголиком, а неврастеником.
Искренним и натуральным алкоголиком был Саша Куприн.
Не считая мелочей, по-хорошему мне удалось выпить с ними два раза.
В шестнадцатом году в Москве – и откуда-то в изможденном войной городе появились лощеные лакеи, шампанское, икра, цыгане, медведь. И в тридцатом году в Париже (вместо Лени был его сын Вадим) – с теми же лакеями и цыганами и – вы будете смеяться – с тем же медведем, словно он собакою следовал за Сашей Куприным по странам и весям.
Ваня Бунин в своих воспоминаниях описал, как пьяный Куприн однажды потяжелел и выкатил на него шары своей ревности и зависти. Должен признаться, что и я однажды угодил в подобную ситуацию.
Лицо Саши вдруг обрело какие-то трезвые и четкие очертания, он придвинул к себе водку и махнул три стакана подряд совершенно одинаковым манером, как автомат. Его видимая трезвость от этой процедуры лишь усугубилась.
– Что он себе думает? – спросил меня Саша.
– Кто?
– Да Ванька Бунин. Выставляется, выпендривается, как вошь на лобке.
Великий писатель, трендить его мать.
– Неплохо пишет, – отметил я, чтобы потом прямо смотреть в глаза
Ване Бунину. Ждал взрыва, однако Саша Куприн прямо-таки ухватился за мое замечание.
– Вот! В точку, Миша! – Он пожал мне руку. Я поморщился. Он продолжал: – Неплохо пишет. И только. – Куприн соорудил из своих огромных пальцев щепоть и аккуратно по воздуху продозировал последнее высказывание. – И-толь-ко. Подумай сам, Миша, раскинь мозгой, может ли быть умеренность великой? Можно ли стоять в фартуке над кастрюлей, швырнуть туда ровно три с половиной грамма базилика и сварить нечто великое?! Не великий, заметь, суп, а нечто более великое, чем суп?!! – Вот тут его опьянение обозначилось в первую очередь в мутной поволоке глаз. Саша сжал вилку в кулаке так, что костяшки пальцев побелели. – Это все еврейские штучки, Миша, поверь мне, мне ли не знать сей род хитроумия? Вот ты хоть и Моисеич, но русский по духу. Дай я тебя поцелую? Ладно, потом. А Ванька пусть изгаляется. Там, – Саша энергично ткнул вилкой вверх, – эти его штуки не пройдут. Там разберутся, Миша.
И так далее минут на сорок пять.
Но писатель был волшебный, нутряной. Да и Леня Андреев обладал какой-то нечаянной точностью. Граф Лев Николаич глумился над ним, мол, пугает, а мне не страшно. Так ведь каждый своего боится, граф дорогой. Отсюда и легионы разнообразных демонов в духе сегодняшних супермаркетов, на любой, самый рафинированный, вкус…
Вчера, кстати, в нашем потребительском раю с каким-то вселенским названием, которое я никак не могу выучить наизусть, появилась вобла. Эта народная рыба, поддавшись моде, примерила вакуумную упаковку и напялила штрихкод. Произвела ее на свет очередная “Вобла
Инкорпорейтед”. Есть ее не хочется.
А какая чудная вобла была на Волге в семьдесят шестом, засоленная лично Тамиром, под водку и закат…
Если (не дай вам, конечно, Бог) разбить бутылку подсолнечного масла, из осколков потянется такая ленивая золотистая струйка, вязко-извилистая, словно хочет изобразить зигзаг, да смазывает углы.
Вот примерно так растекалось солнышко по реке.
Да и сейчас, вероятно, растекается.
Я люблю гулять холмистыми районами Москвы. Возраст не позволяет мне нырять в эти крутые переулки, особенно когда наледь, да и вам не советую. Зато можно в них заглядывать. Крыши, блестящие тусклым металлом. Антенны. Золото куполов. Рваный городской горизонт, составленный из мельчайших, еле видных отсюда строений и конструкций. Если повезет, серая вода реки. И вдоволь неба, небо сегодня бесплатно.
Вот это перспектива. А больничная палата, капельница, хлор, далее везде – это морок, частность, заслуживающая лишь великолепного презрения.
Как там у Миши? Отряд не заметил потери бойца? Вот-вот. Даже сам боец – и тот не заметил.
Сравнительная география
Поездить пришлось. И так как личные впечатления разительно отличаются от путеводителей, впору составлять свой. Турбюро имени
Михаила Мичмана. Итак, поехали.
Париж. То, что еще десятилетие назад мне пришлось бы пояснять долго и трудно, теперь уместилось в одно веское слово – понты. Что такое художник? Шарф, берет и взмах кисти. Что такое гарсон? Поклон и полотенце на изгибе локтевого сустава. Все это напоминает любительский театр, довольно бездарный, но искренний и азартный, под ласковым солнцем или ласковым же дождем. Искусственно приподнятый тонус, ажитация, город хронически хочет нравиться, как ребенок в неполной семье наивно хочет понравиться любому пришедшему мужчине, хотя бы и водопроводчику.
Иногда это удается.
Нью-Йорк. Одиночество. Гигантский механизм для отделения человека от людей. Одиночество: в толпе, в подземке, на хайвее. Человек – это то, что огибаешь, или то, от чего уворачиваешься.
Как-то раз мы сидели в “Макдоналдсе” с Куртом Воннегутом. Я занял столик, он подошел с подносиком, я начал есть, а он отчего-то уставился на гамбургер.
– Что, Курт, – спросил я его по-английски, – думаешь, что мир похож на гамбургер?
Он аж вздрогнул:
– Как ты догадался, Михель?
– Просто ты так же предсказуем, как этот гамбургер. Старая немецкая пишущая машинка.
Курт засмеялся как дурак и приятельски пихнул меня в плечо:
– Я введу тебя в следующий роман. Старого русского еврея, который смотрит на страницу, а видит следующую, поэтому ему скучно жить.
– А кто там еще будет?
– Еще будет крыса, живущая в “Макдоналдсе”, причем летучая мышь предсказала ей, что она найдет смерть в чизбургере, и крыса все собирается эмигрировать на помойку, но откладывает отъезд. Думает, покушаю вволю еще разок…
Я непроизвольно отложил чизбургер в сторону; Курт довольно захихикал, как гимназист.
– А еще?
– Еще? – Он мгновенно посерьезнел. – Еще будет домохозяйка, которую разлюбил муж, страховой агент, а она старается этого не заметить. И сам Бог пытается ей помочь.
– А сумеет?
– Не знаю, Михель. Надо писать. – Он взглянул на часы. – Нет, уже не сегодня. Я люблю писать рано, когда холодный рассвет. Когда красное солнце отражается в небоскребах – о, какая это красота, Михель. У меня в студии окно во всю стену, это фантастика. Я стою около окна с тостом в руке. Стою вдоволь, никто меня не торопит. Потом иду к старой пишущей машинке. Правда, американской. Немецкая пишущая машинка идет к американской, и вдвоем они что-то мастерят.
– И что получается?
– Разумеется, дерьмо.
Понимаете, у путешествия должна быть цель. Город – это люди. Причем не абы какие, а те самые, ради которых имеет смысл уничтожать расстояния. Расстояние – мера любви к человеку.
Даже московская дистанция может оказаться неподъемной. У меня есть знакомые в Бескудникове и Свиблове, но любовь моя к ним
недостаточна для того, чтобы тащиться в Свиблово или Бескудниково.
Остается смотреть в окно.
Прошел дождь, и на стекле остались слезы, высыхающие от ветра.
Погода мятежная, неуютная, открытая. Тонкие деревья гнутся от ветра так, что кажется, будто корпуса зданий гнутся в противоположную сторону. Женщина с авоськой идет по своим нешуточным делам, наклоняясь навстречу ветру, иногда заслоняясь свободной рукой от порывов злого городского мусора, обрывков листвы, мельчайших острых камней.