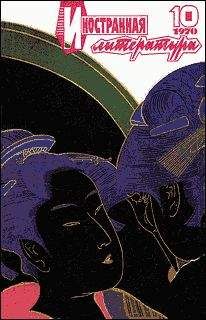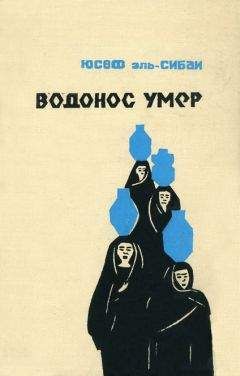Он нашел в ней все то, чего желал. Его больше не мучила тревога за любимого сына. Ведь Секина была с ним нежнее, чем мать, и заботливее, чем отец. Она ни разу не попыталась использовать свое новое положение, чтобы поднять голову, стать в доме хозяйкой-повелительницей. Безропотная и послушная, она не желала ничего — только услужить господину и его сыну.
Брак с Секиной был бы невозможен, и это его успокаивало. Она всегда будет неизмеримо ниже его, довольная и, по-видимому, счастливая.
Несомненно, жизнь продолжала бы течь размеренно и монотонно, если бы вскоре одно обстоятельство не лишило его покоя. Секина забеременела. Он не находил себе места от бешенства. Это случилось, видимо, давно — он поздно заметил! — ведь живот вздулся довольно явственно, как бывает на четвертом или пятом месяце беременности.
Он сердито спросил, почему она с самого начала не сообщила ему об этом. Ему стало ясно, что эта дуреха не только не расстроена случившимся, а, наоборот, обрадована и горда. И он тревожно задумался.
Если Секина родит, он будет вынужден жениться на ней, и она займет место хозяйки в доме, мачехи его сына. Если бы даже он согласился взять на себя весь позор человека, женившегося на своей служанке, он все равно не мог бы пойти на это из-за сына. Ведь тогда она, безусловно, изменится. Она отдаст свою нежность новому ребенку, а его сын, как и все чужие дети у мачех, станет ее заклятым врагом. Не будет больше этой безропотной, послушной Секины. Нет, нет! Она должна как можно скорее освободиться от бремени. Надо сделать аборт, каковы бы ни были его последствия.
Он позвал ее в свою комнату и сказал повелительно:
— Одевайся, нам надо сходить к врачу.
Она не пошевелилась, не сделала ни одного движения, только опустила голову. Потом тихо промолвила:
— Я здорова, мой господин. Мне незачем идти к врачу.
— Он сделает тебе аборт.
Секина покачала головой. Было видно, что она не понимает значения его слов. Он повторил:
— Доктор избавит тебя от того, что у тебя внутри.
Ее лицо выразило изумление. Боязливо положив руку на живот, она спросила:
— Он избавит меня от него? Почему, господин мой?
— Не должно быть никаких следов того, что случилось между нами.
— Я спрячу его, когда он родится. Никому его не покажу.
— Я не хочу этого.
— А я хочу, мой господин.
— С каких это пор ты стала высказывать свои желания, дурочка?
— Это единственный раз, когда я хочу чего-то. Никогда потом ничего не попрошу. Я люблю вас, мой господин. Я хочу сохранить то, что во мне от вас. Я не буду беспокоить вас из-за него. Он будет сыном для одной меня, вам будет слугой, какой я была всегда. Никому не скажу, что это ваш ребенок. Скажу, что от прохожего. Подарите его мне. Это единственный подарок, о котором я вас молю. Я люблю его, как люблю вас и все, что с вами связано.
Он был поражен ее горячими, искренними словами. Как могла такая дура произнести подобные пламенные, волнующие слова! Они шли из глубины сердца. О горе! Он и не подозревал, что у этого глупого животного есть сердце, переполненное любовью к нему.
Однако… Было бы безумством распускаться перед ней. Он должен быть твердым — не ради себя самого, а ради сына.
Да, нельзя поддаваться чувствам. Надо быть человеком дела. Секина со своей ношей — тяжелое бремя. Без этой ноши она полезнее в тысячу раз.
Он взглянул на нее и опустил голову. Потом отрезал:
— Я не хочу его. Если ты действительно меня любишь, ты должна желать того же, что и я. Мы должны избавиться от него.
— Слушаю вас, мой господин.
Он знал, что аборт, особенно такой поздний, — дело нелегкое, что трудно найти врача, который рискнул бы на это.
Доктор Сейид Ибрагим, кузен жены, — вот единственный врач, которому можно довериться, который ради него возьмется за эту операцию. Это смелый, благородный человек. Он должен все понять и согласиться с тем, что операция неизбежна.
Секина шла рядом с ним, глядя в землю. Лицо ее было безжизненным и неподвижным.
Уже у дверей приемной он взглянул на нее и ласково сказал:
— Ничего, Секина, все будет хорошо. Это простая операция. Я бы не настаивал на этом, если бы не сын. Только ради него… Я хочу, чтобы ты думала только о нем.
— Слушаю вас, мой господин.
Он вошел к врачу один, а она присела в коридоре.
Врач слушал молча, все больше удивляясь его рассказу. Наконец, качая головой, он проговорил: «Пять месяцев. Трудная операция».
— Знаю. Но надо сделать. Ради Набиля.
Доктор закончил операцию, и Секина притихла. Она избавилась от того, чего не желал ее господин, но дорогой ценой — ценой жизни. Помутневшим взором она обвела комнату. Ее глаза остановились на побледневшем лице врача, на губах показалось подобие насмешливой улыбки. Слабым, нетвердым голосом она произнесла:
— Доктор…
— Что тебе?
— Кончилась операция?
— Да.
— Избавилась ли я от того, что было во мне?
— Да.
— Ох! Если бы он знал…
— Что он должен знать?
— Если бы он знал, что я избавилась от его сына… ради сына другого человека.
— Замолчи, тебе нельзя разговаривать, пока не отдохнешь.
— Я отдохну очень скоро, распрощаюсь со всеми навсегда. Представьте, доктор, он избавился от своего сына ради… вашего. Он попросил вас убить своего сына для благополучия вашего сына. Представьте себе!
— Помолчи. Перестань бредить.
— Я не брежу. Вы лучше меня знаете правду. Только я одна знала про вас и про его жену. Вы прекрасно знаете, что Набиль родился у нее от вас. Я просила оставить мне его настоящего сына, которого я носила в себе. Это было его дитя, потому что я-то не лгала и не изменяла ему. Но он отверг просьбу, ведь я Секина, глупая, безропотная, послушная служанка.
— Хватит бредить, сумасшедшая!
Дверь тихо отворилась, вошел он, весь бледный, с лицом, застывшим от страха, и спросил дрожащим голосом:
— Что с ней?
Врач ответил:
— Ничего, она бредит.
Секина подняла глаза на своего господина, протянула руку, потом, найдя его ладонь, приложила ее к своим неподвижным губам и закрыла глаза.
Больше она не промолвила ни слова.
Перевод Г. Шарбатова
Три часа пополудни. Жаркий июльский день. Остатки тени, которыми еще кое-как наслаждался Мадбули, окончательно растаяли, подчиняясь круговороту солнца. Капли пота обильно орошали лоб и шею Мадбули. Он поднял край широкого рукава, чтобы вытереть пот, но капли при этом сползли к его глазам, и он лишь размазал их с пылью. Проносящиеся одна за другой машины без конца поднимали эту пыль, которая оседала на прохожих, сновавших туда и сюда.
Мадбули вглядывался в светофор. Вот погас зеленый свет, затем на какой-то миг зажегся желтый, и едва лишь засветился красный, как машины стали громоздиться друг за другом. Мадбули рассеянным взглядом обводит их, не в состоянии различить одну от другой… Но машины снова трогаются, увозят каких-то людей, которые, кажется, очень спешат. Откуда спешат и куда, ему неведомо.
Самому ему всю жизнь некуда было торопиться. Да и что подгоняло бы его?
Разве иногда попадался вот такой тип, вроде олуха, который сейчас сидит рядом с ним, время от времени покрикивает на него. А что ему эти окрики? Он преспокойно впускает их в одно ухо и выпускает из другого.
Бывало, прежде тоже некоторые пытались его поторопить. Но никому еще этого не удалось добиться, и удары его молоточка и движения ножа по оселку оставались всегда размеренными, как колебания маятника у часов.
Сейчас он посматривал на скопление машин, разглядывал их владельцев. Гудки и сирены красноречиво выдавали встревоженность и нетерпеливость пассажиров.
На миг рука с молоточком застыла в воздухе. И застыл в ожидании гвоздь, приставленный к подметке. Ну что ж. Пора ударить.
Но ожидание затянулось…
Беспокойно заерзал на своем месте шейх Абд аль-Гаффар, усевшийся на корточках тут же, на тротуаре: солнечные лучи, пробивающиеся из-за соседнего здания, нещадно бьют его по лицу, и пот струится из-под чалмы, окутывающей его голову. И вот снова он покрикивает на человека, который сидит, скрестив ноги, перед своим ящиком:
— Ну давай, Мадбули, поторапливайся!
И Мадбули обрушивает удар молоточка на шляпку гвоздя, чтобы тот навсегда исчез во чреве подметки. Таков его молчаливый ответ на понукания Абд аль-Гаффара.
А Абд аль-Гаффар удовлетворенно вздыхает и даже немного сдвигает назад чалму, чтобы проветрить свою облысевшую голову.
Почесав большим пальцем конец морщинистого подбородка, усеянного седыми волосами, он размахивает подолом своей широченной одежды, как веером, обнажая при этом костлявую безволосую белую ногу, а сам упирается голой пяткой в горячий асфальт тротуара. В руках он уже держит один ботинок после починки и никак не может нарадоваться новой черной подметке, вырезанной из резинового куска автомобильной шины, что покоится в ящике Мадбули.