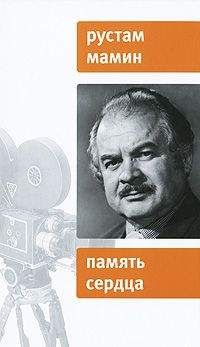Дементий Рябохлыст зимовал дома, как в берлоге, которую летом сдавал, превращаясь в бомжа. Он уже достиг возраста, когда все новости сводились к смерти кого-нибудь из ровесников, а мёртвые во сне являлись чаще живых, но по-прежнему оставался ребёнком, точно шёл в сторону, противоположную времени. Разбив палатку, он проводил лето рядом с детскими садами, выезжавшими на природу, платил воспитательницам, которые напоминали ему жену, чтобы они сидели с ним, пока не заснёт. «Мамочка, − бормотал он во сне, − я боюсь темноты, не запирай меня в чулане, с летучими мышами, которые хотят меня ам-ам!» Во сне он часто скакал на деревянной лошадке, размахивая прутиком, как саблей, оборачивался на давно умерших родителей и восторженно кричал: «Ту-ту-у, поехали!» А когда посреди ночи просыпался, ему вытирали сопли.
Был вторник, новолуние, и Марат Стельба голодал. Утром он черкал дневник, подводя итоги, стучал костяшками счёт: «На сандалиях — пыль, а на ранах — соль, на устах — небыль, а на сердце — боль…» Его бухгалтерия была двойной, но концы в ней всё равно не сходились, и Марат Стельба не выдержал. Сунув карандаш за ухо, он нахлобучил шляпу и, пугая мышей в парадной, выскочил вон. Накрапывал дождь, из тумана гулливерами выступали высотки, а вдалеке чернели трубы котельной, свисавшие на дымах, как на верёвках, с промозглого, серого неба. Марат Стельба бродил целый день, но не помнил, где и зачем. А вечером последняя строка в его дневнике была зачёркнута. «В мозгах — канифоль», − значилось вместо неё. У Марата защекотало в ухе, но по рассеянности он стал почёсывать шляпу. Он узнал руку сына.
− Да ты поэт! − толкнул он дверь в его комнату носком сапога.
− А ты не знал? − ухмыльнулся Авессалом Люсый. − Вот послушай: «Надрывался вокалист, рыжий гомосексуалист, танцевала обезьянка — престарелая лесбиянка…»
Марат передёрнул плечами, но от растерянности его понесло.
− Ты почему школу бросил? − подставил он другой бок.
− Сам знаешь, − врезали ему, − там готовят к одной жизни, а проживать приходиться другую. А, думаешь, ты умный, образованный? Да ты просто закоснел в своих затхлых предрассудках!
Марат Стельба хотел, было, съязвить, но тут заметил, что сын лежит голый и курит в постели. А пепельница стоит на груди молоденькой девушки − грудь была плоской, с родинкой под левым соском. Марат Стельба покраснел и, пулей выскочив из комнаты, дал себе слово больше в неё не заходить. А Авессалом, простившись с девушкой, ещё долго думал, как здорово врезал отцу, от посягательств которого отстаивал свою территорию, с упрямством молодости твердя о свободе, не подозревая, что она может обрушиться, как нож гильотины. А если бы ему сказали, что его жизнь, превращённая в сплошной протест, существует лишь как перевёрнутое отражение отцовской, он бы рассмеялся.
Книги стареют с каждым прочтением. А численник допускал только одно. К вечеру день сгорал вместе со своим листком на свече. «Гори огнём и синим пламенем», − пританцовывал вокруг огня Марат. От увиденного глаза в старости пучатся, как у рака, и на них вырастают очки. Поэтому старость видит всё. Но только не себя. «Мир — один большой парадокс», − бубнил к вечеру Марат Стельба, так и не сумев перешагнуть через разногласия с сыном, и, успокоенный, сжигал страницу календаря. Но он лгал. Это в его жизни царила сплошная неразбериха: он загораживался абсурдом от абсурда и ждал, когда в его численнике перевернётся последняя страница. У него была своя вера. А вскоре появилась и икона. Опускаясь на колени, он вешал на стену треснувшее зеркало и, стараясь не мигать, долго молчал, запуская свою грусть в белый свет, как в копеечку. «Мощи мои живые, − трогал он в зеркале щетину на подбородке, − да от тебя одни глаза остались!» Его зрачки сморщились, как сушёные виноградины, и прошлое застряло в их трещинах уродливыми наростами, не пропуская больше ни настоящего, ни будущего. Он сверлил в нём дыры, из которых черпал горстями пустоту, а после шарил слепыми руками, натыкаясь на боль, за которой шёл, как за компасом. Но он ещё надеялся и старался глядеть на своё отражение свысока. Вечерами Марат Стельба выходил во двор в надежде встретить Авессалома − квартира для этого была слишком большой, в ней они терялись, как в густом, тёмном лесу, со временем научившись передвигаться, словно призраки, не замечая друг друга. Начались дожди, капли прожигали ладони, а ветер лез за воротник. Марат садился на скамейку, уперев руки в колени, сплёвывал между длинных, расставленных, как у кузнечика, ног и, выпуская облака табачного дыма, ждал. Но дожидался лишь тьмы, съедающей тени. Проводив последний катер, ревевший далеко на канале, он тяжело поднимался, качая головой: «Эх, Авессалом, Авессалом…»
«Где тут квартира Марата Стельбы? − обратился к нему раз одинокий прохожий с букетом чёрных роз. И скосил кошачьи зрачки: − Того, что сегодня умер». Марат похолодел. Он вдруг представил себя на собственных похоронах среди чужих, равнодушных людей, которые с каменными лицами толпились возле гроба, таинственно перешёптывались, целуя его в лоб. Но себя Марат не увидел, как ни старался. Он открыл, было, рот, но человек с букетом уже исчез, а его будил рёв плывущего по каналу катера.
Ребёнком Марат Стельба смотрел на взрослых и думал, что они состарились раньше, чем к ним пришла старость, будто жаждали поскорее её встретить, он видел, что их сознание, как засохшая глина, приняв причудливые формы, застыло, утратив гибкость и подвижность, что их представления о мире, производя впечатление твёрдых и незыблемых, сложились в заданных обстоятельствах и ограничились приспособлением к ним, и потому готовы рассыпаться от малейшего толчка, как хрупкая ваза, и, зная это, люди инстинктивно их оберегают, не слушая чужое мнение, не вступая в диалог, который превращают в очередную возможность проговорить давно заученное, и тем самым всё глубже погружаются в одиночество, как подводная лодка, ложась на его дно, так что до них невозможно достучаться. А теперь Марат получал наглядное подтверждение детским наблюдениям. В своём лице. Помешивая ложкой кофе, точно раздвигая в темневшей мути проступавшие картины прошлого, он оглядывался на свою жизнь, и она представлялась ему нелепой, как песня в сурдопереводе. «Из века в век жизнь одна и та же, − думал он, − только переводчики у неё разные». Теперь он видел себя посреди чужого времени, течение которого было неподвластно его воле, видел людей, родившихся в мир из чемоданов и сундуков, людей, у которых цепкие, крючковатые пальцы растут из локтей и плеч, растут из головы, заменяя волосы, выпавшие ещё до рождения. Он видел, что эти люди стоят на плечах других людей, и оттого, как кроты, слепы. А он не хотел быть слепым и потому выл от одиночества, чувствуя себя тем, кем был на самом деле — выжившим из ума стариком, которого все бросили, и который заслонился от всех религией численника.
В такие минуты Марат Стельба понимал, что он и есть тот человек, про которого сказали, что он умер.
Иногда Савелий Тяхт, в обязанности которого входило вести домовые книги, их запускал, но всегда навёрстывал, работая, как вол, до зари. И тогда они пухли на глазах, вмещая километры строк, а он высыхал, как колодец.
«Мне сегодня стукнуло столько, что мог бы выйти на пенсию, будь я женщиной!» — останавливал у подъезда Пахом Свинипрыщ, въехавший в квартиру погибшего Викентия Хлебокляча. И наливал доверху стакан, как было принято в его деревне. Ладони у Пахома были липкие, он шёл в ногу со временем, и был всегда на коне.
− Таких за одну биографию расстреливают! — шушукались у него за спиной, хотя о себе он ничего не рассказывал.
− Держи карман шире, а рот на замке! − ухмылялся он, обнаруживая тонкий, как у охотника, слух, и плотнее натягивал кепку на большие уши.
Говорить с ним было не о чём, хотя он трещал без умолку, и, встречая его, Тяхт думал, что у каждого времени своя правда. «А у каждой правды − своё время, − глядел он после на тикавший будильник. — И часы говорят её, то спеша, то отставая». А во сне видел мать. «Не шевелись! — строго приказывала она, пока он, зажмурившись, терпел боль, а потом подносила зеркало: − Смотри, какого крокодила выдавила!» И Савелий кивал, проклиная свои угри, не понимая, зачем быть красивым, если никто его не видит. А просыпаясь, вспоминал, что матери, как и угрей, больше нет, а его кроме жильцов по-прежнему никто не видит.
«Думаешь, закричав, повернёшь реку? — зайдя познакомиться, подливал в рюмку Ираклия Пахом Свинипрыщ. — А войдя, измеришь? Вот и остаётся только рыбу ловить». Ираклий Голубень невпопад кивал, думая, что соловей может и залаять, а собака никогда не запоёт. Пахом Свинипрыщ опрокидывал рюмку за рюмкой, не пьянея, гнул своё: «Тебя смущает мой провинциализм? Но провинциализм определяется не местом рождения, а состоянием души! − И вдруг, проницательно посмотрев, огорошил: − А что ты сделал для искусства?» Так Ираклий Голубень понял, что Пахом Свинипрыщ отобрал у него Сашу Чирина.