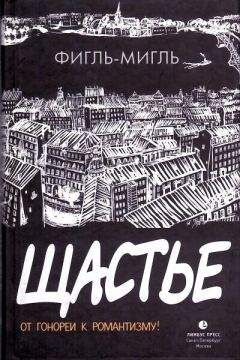— Коньяка бутылку, — распорядился Муха, — салфетки, рюмочки и порцию мяса в горшочке.
Официант кивнул и грузно удалился. Я смотрел, как он уходит — словно не идёт, а медленно пропадает в дыму и так же медленно (прошёл день, прошла ночь) появляется вновь: серой скалой, глыбой, камнем, остовом дома, с которых утренний ветер сдул туман; точно такой же, как столетие назад, в серой белой куртке, со стянутой пластырем бровью, — но с подносом, с заказом в руках.
— Уважают, — сказал Муха одобрительно. — Шевелятся. — Он придвинул к Жёвке глиняный горшочек (за горшком, отставая на треть шага, прогибаясь, последовал пахучий дымок). — Поешь, поц.
Жёвка схватился за ложку. Муха важно разлил по рюмкам коньяк.
— Прошу аттенции!
Жёвка не донёс третью ложку до рта:
— Чего?
— Рот закрой и слушай, вот чего.
Жёвка послушно захлопнул пасть и с грустью посмотрел на несъеденный кусок. Коричнево-прожаренная, в оборках румяной сметаны корочка мяса, благоухая, дыбилась из ложки под гипнотизирующим голодным взглядом.
— Примерно сегодня, — сказал Муха, — ровно сто лет с тех пор.
Мы выпили. Местный коньяк каждый раз удивлял меня чем-то новым. Сейчас ёжиком, набором колючек он покатился в желудок, и каждая колючка была живым проворным существом.
— За события, — сказал я.
Жёвка завозился.
— Не хочу я событий, — мяукнул он. — Мне и без того плохо.
— Глупый ты человек, поц, — отозвался Муха с сосредоточенной, серьезной грустью. — События — аромат жизни. Чему ты детей учишь?
— Ну как чему, — ныл и канючил Жёвка, — этой самой, значит, русской литературе.
— И русскому языку?
— Вот-вот!
— Ничего, — сказал я.
Мы ещё немного поговорили. На третьей рюмке Жёвка сполз под стол и заснул там детским сном хронического алкоголика. Он лежал кучей, как большая старая собака; то пыхтел, то ворчал сквозь сон. Бока ходили туда-сюда от тяжёлого дыхания. Во сне он прижимал к животу обе руки, от чего-то защищаясь.
— Через полчаса как стекло будет, — сказал Муха с завистью. — Ну как ты?
— Не знаю, — сказал я. — Видел же ты мои события. Да вот, кстати, — и я сам вспомнил, о чём забыл, — меня вчера прокляли.
Муха вздрогнул, и его быстрые глаза замерли.
— Кто?!
— Да так, дырка одна.
— Там? — спросил он с уважением, выставляя подбородок по направлению, как он предполагал, к Городу.
— Ну не здесь же.
— И почему у наших баб нет фантазии?
— Потому что Господь милосерд.
Я рассказал всё как было, добавив только детали, которые, я знал, его позабавят.
— Скандальчик будет, — одним дыханием выговорил он. — Весёленький скандальчик. Подействует?
— Не знаю, — сказал я. — Она всё сделала как положено. Но проклинать должен умирающий.
— Может, она уже и померла.
— Ну с какой радости ей помирать?
— Простой бабе, может, и ни с какой. А у этой — психология.
— Значит, ты в это веришь?
Муха застенчиво улыбнулся.
— Кто же не верит в проклятие?
— А что это за «та пора»? — спросил я.
— Это тост, — удивился Муха. — Ты разве не знаешь?
— Я думал, ты знаешь, что это такое на самом деле.
Муха качнул головой, думая о другом.
— И ты сам ей всё объяснил?
— Как я мог не объяснить? Это мой бизнес.
Пока мы набирались и разговаривали в своём углу, в распивочной побывало множество народу. Место было дорогим и модным, сюда ходили все, кто мог себе это позволить. Разве что китайцы не ходили. Но китайцы не ходили вообще никуда. А анархисты ходили такой плотной компанией, что ни для кого другого не оставалось места. Четверг был их день, четверг. Но не каждый четверг. И даже не каждый чётный или нечётный или, допустим, третий четверг месяца. Муха высчитывал, но так и не смог составить алгоритма их посещений. Я предположил, что их, как пчёл или муравьев, собирает инстинкт. Муха стал изучать повадки насекомых. Это ни к чему не привело.
Через стол от нас сидели менты, все как на подбор: худые, жилистые, криворожие; рядом с нами — член профсоюза с девкой. По нашивкам я определил профсоюз: торговые работники. Девка была слишком неказистой для дорогой проститутки и слишком чистенькой — для дешёвой. Сколько я ни прислушивался, она молчала. И мужик молчал. (Вариант: всё-таки проститутка. Вариант: у них давно всё решено.) Они мирно, не торопясь, жрали. Молчание согласия это было или молчание ссоры? Обручальных колец нет, изобилия спиртного на столе нет, напряжения (радостного, угрюмого, взволнованного) нет, слов нет. Это был пазл, не складывающийся из перемешанных частиц двух разных картинок.
Жёвка под столом вздохнул, завозился, отряхиваясь, и полез наружу, цепляясь за стул, как потерпевший кораблекрушение — за прибрежный камень. Одной рукой, помогая, Муха ухватил его за шиворот, другой отчаянно замахал официанту.
— Прошу аттенции, — сказал Жёвка.
Муха обомлел.
— Чего?
— Ты же, типа, так говоришь, — испуганно заныл Жёвка.
— Ты, поц, сравнивать будешь?
— Говори, — сказал я.
— К тётке надо съездить, — прошептал Жёвка.
— Что так, соскучился? — буркнул Муха, щёлкая официанту пальцами и придвигая Жёвке тарелку.
— Тётка умирает, — Жёвка стал ныть тоном ниже. — Что ж я, значит, не увижу родную тётку перед смертью?
— Перед чьей смертью? — уточнил Муха. — Ты, Розенталь!
— Наследство будет, — шептал и канючил Жёвка, и его рука дрожала, спеша воткнуть вилку в бифштекс. — Телеграмма пришла.
— Что такое говорит этот поц? Он получит наследство?
— У тётки деньги и барахло! — взвизгнул учитель. — Она всю жизнь огород держала!
— Как же у такой героической тётки такой засранец племянник?
— Куда ехать? — спросил я.
Жёвка прожевал и снова поспешно набил рот. Муха потряс его за плечо.
— Ну?
— В Автово.
— В Автово! Это же край географии!
— Съездим, ребя, пожалуйста! Я вам отдам половину на двоих.
— Мы же твои друзья, — сказал я. — По трети каждому, так будет справедливо.
— Все равно самоубийство, — сказал Муха хмуро. — Ехать в Автово, без охраны, без карты — даже если не тронут, сколько времени уйдет, месяц, год? — Он посмотрел на меня. — У тебя была карта Города.
— Вот именно, — сказал я. — Карта Города.
У меня была карта, которой пользовались богатые: с отчётливым, до последнего проулка и проходного двора прорисованным центром. Всё, что находилось на нашем берегу, на этой карте было изображено метафорами поверх белого пространства. Например, на севере, там, где — предположительно — жили мы, было написано: Скифские Морозы. Там, где — предположительно — было Автово, картограф каллиграфически написал: Великая Степь. Между Морозами и Степью помещались Болота Мрака, Безводные Пески и Дикие Звери.
— Где это хотя бы примерно? — спросил Муха.
— По ту сторону Обводного.
И Муха, и Жёвка сжались, как будто само название хлестнуло их страхом. Обводный канал не представлялся богатым достаточно мощной естественной преградой, такой как Нева, и в стародавние времена там был построен Забор. Строили под патронажем Академии наук, тогда еще существовавшей. Учёные — это такие люди, которые, хотите вы того или нет, непременно что-нибудь изобретут и откроют. Строители Забора тоже изобрели — какие-то излучатели, какие-то поля высокого напряжения. Фольклор (единственное, что осталось от проекта) сохранил легенды о шедших в обе стороны взрывах, мутациях, зонах и подобном. Всё было сделано по науке, поэтому вышла такая дрянь. В городе объявили вне закона всех физиков, с Забором кое-как справились, но до сих пор (сколько же лет прошло? двести? триста?) это слово излучало сосредоточенное угрюмое зло. Анархисты как-то снарядили на Обводный экспедицию — и те, кто вернулся, перестали быть анархистами и записались в профсоюзы. По крайней мере, так рассказывали, когда я учился в школе.
— У тётки огород! Плантари, трафик, всё завязано! — крикнул Жёвка, превозмогая жадностью страх.
Волшебное слово «Огород» возымело действие. Муха — не настолько аморальный, чтобы презирать богатство, успех, достойную старость — из любой грязи благоговейно поднимал любую сплетню о людях, начавших с пары грядок и бодрой ногой шагнувших в нувориши. Кто-то допускался к объедкам со стола, а кто-то и к самому столу, но разве это было главное? Огород мог быть огромной плантацией в чужом краю или робкой делянкой на ближайшей окраине, но их владельцы одинаково расправляли плечи: хозяева весёлых пространств, засеянных коноплёй и маком, полей и полянок, на которых росли мечты и деньги. Золотые сны и настоящее золото.
— Всё на свете принадлежит кому-то другому, — заметил Муха. И вполпьяна, в шутку, не сомневаясь в том, что никуда не поедем, мы сели разрабатывать план путешествия.