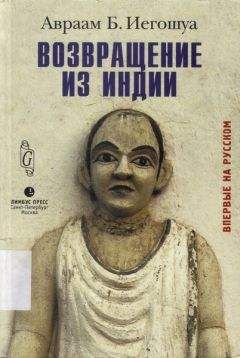И тут вдруг к Кадровику возвращается утраченное им в этом уюте сознание своей ответственности.
— Ее нет, — тихо говорит он. — Она погибла во время теракта на прошлой неделе.
Кажется, смертоносный пояс террориста, взорвавшийся на минувшей неделе на овощном рынке, сейчас взрывается снова, только на сей раз совершенно беззвучно. Мастер отшатывается, как будто его толкнула взрывная волна, лицо его багровеет, он стискивает голову руками.
— Не может быть…
— Еще как может, — все так же негромко говорит Секретарша, даже, кажется, с каким-то странным злорадством.
Но теперь Кадровик уже не дает ей продолжить. В нескольких простых и внятных словах он рассказывает Мастеру о намеченной к публикации статье и об озабоченности хозяина, который страшится, что это может повредить доброму имени и даже доходам пекарни.
— Вы нас немного запутали сейчас этим вашим «расставанием», — не без укора подытоживает он. — Но теперь мы хоть установили, что она уже не работала у нас ко времени теракта. А это значит, что мы и не обязаны были интересоваться ее судьбой.
Видно, что Мастер и впрямь тяжело переживает внезапное известие, но Кадровику кажется, что даже это не умерило следственный раж Секретарши, и он вдруг делает именно то, чего всегда избегал, — тепло, по-дружески кладет ей руку на плечо, не стесняясь посторонних. «Хватит, — увещевает он ее. — Кончай. Поздно уже. Смотри, и дождь этот треклятый никак не кончается. Теперь-то уже все ясно, правда? Так что большое тебе спасибо за помощь, но дальше я уже смогу действовать сам, а ты поезжай давай домой — дети, наверно, тебя заждались, и муж…»
И с каким-то незнакомым, неожиданным для себя волнением запечатлевает на золотистой макушке младенца легкий поцелуй — словно в награду за его терпеливое молчание. Ребенок жмурится от удовольствия и в очередной раз выплевывает изо рта постылую соску.
Секретарша словно бы вдруг приходит в себя. Все ее административное рвение разом испаряется, она неторопливо, задумчиво застегивает свое широкое меховое пальто, так что младенец снова исчезает в нем, и вдруг, озорно улыбнувшись, поворачивается к пожилому Мастеру и спрашивает его: а что, сотрудники администрации тоже могут получить бесплатно буханку хлеба? И от этого простодушного вопроса недавней неумолимой прокурорши смуглое лицо Мастера тоже расплывается в широкой улыбке, и он набивает ей в сумку три буханки разных сортов, добавляет к этому две пачки сухарей, несколько пакетов крутонов и панировочных крошек и велит одному из рабочих, которые все еще крутятся поблизости, отнести сумку к ее машине, а заодно дать пару буханок также ее начальнику.
Но Кадровик соглашается только на одну.
И почему-то не покидает здание пекарни. Напротив, непонятно зачем бредет следом за Мастером, который тем временем торопится во внутренний зал, где рядом со стальным цилиндром третьей печи два техника давно уже ждут его разрешения на запуск. И тут, на своем рабочем месте, этот человек, только что казавшийся таким смущенным и растерянным рядом с наседавшей на него неукротимой Секретаршей, словно бы вдруг меняется на глазах — так уверенно и властно отдает он короткие и твердые приказы, которые мало-помалу пробуждают внутри печи глухое, сдержанное и глубокое урчание, словно там нехотя просыпается какое-то огромное цирковое животное, этакий дрессированный тигр или лев. Кадровик в восхищении глядит на рабочих — как слаженно и дружно работают эти люди в окутывающем их всех братском тепле! На какой-то миг его обжигает тоскливая зависть. Да, в такую промозглую ночь куда лучше иметь дело с молчаливым и послушным веществом теста, чем с хрупкими и ранимыми человеческими существами. Здесь ведь любую ошибку можно исправить — всего-то и нужно, что взмахнуть да нажать.
Видно, этот странный молодой чиновник, так неотступно бредущий следом и всё время поглядывающий вокруг, все-таки беспокоит пожилого Мастера, потому что, когда запуск кончается и к глухому рычанию печи присоединяется какой-то тонкий звенящий вопль, он снова подходит к Кадровику, пытаясь выяснить, что тому нужно еще. Ведь он уже обещал, что сразу по окончании смены зайдет к хозяину и сам признается в своем небольшом административном проступке. Нет, оказывается, Кадровик, этот ответственный за кадры работников пекарни, хочет, чтобы Мастер не торопился со своим признанием. Ему пришло в голову попробовать сначала вообще отменить зловредную публикацию.
— Нет, это у вас не выйдет… — устало говорит Мастер.
— Но почему? Ведь ясно уже, что ко времени теракта эта Рогаева не имела к нам никакого отношения…
— Не будьте наивны. Имела, не имела — какой журналист откажется от такой сенсации? Даже если вы сумеете доказать ему ее непричастность к пекарне — он все равно найдет что-нибудь другое. Ему ведь лишь бы впутать нас в эту историю. Бог с ней, со статьей, пусть публикуют. Не переживайте. Ведь в этих местных газетках люди обычно читают одни только объявления — о ресторанах там или о продаже машин… А если кто и наткнется случайно на эту статейку, то, скорее всего, забудет о ней раньше, чем прочтет.
«Странно», — думает Кадровик и вдруг говорит с неожиданной резкостью, поражающей его самого:
— Непонятно мне: если вы так переживаете из-за нее, почему же вы с ней, как вы говорите, «расстались»? Причем даже до того, как она нашла новую работу?
— А вы уверены, что она ее не нашла?
— После взрыва у нее в сумке обнаружили только черствые остатки…
— Остатки? — Лицо Мастера вспыхивает. — Какие еще остатки? Кто там может судить, что у нее было в сумке, после такого взрыва?
Кадровик испытующе смотрит на смуглого пожилого мужчину, но к вопросу, так и не получившему ответа, больше не возвращается. Нет, он все-таки попытается отменить публикацию. Хорошо бы сделать это еще нынешней ночью. То-то Старик удивится! Он кивком прощается с Мастером и поворачивает к выходу. У дверей его останавливают рабочие ночной смены, возбужденно расспрашивая о подробностях смерти их уборщицы. Нет, он не знает никаких подробностей, он бы сам хотел их о многом расспросить. Но они тоже ничего толком не знают. Пекарня огромна, цеха велики, разбросаны, каждый работает сам по себе, а эта Рогаева — она ведь была принята временно, ну и, понятное дело, боялась, что могут уволить, вот и старалась себя показать, такая добросовестная была, что ото всех замыкалась, слова лишнего никому не скажет — пустая, мол, болтовня…
Снаружи по-прежнему льет. Из-за сплошной дождевой завесы один за другим выплывают серыми призраками огромные военные грузовики, с визгливым скрежетом разворачиваются на парковке и прижимаются широкими задами к погрузочным платформам складов. Почему-то Кадровику становится вдруг жаль, что он не спросил рабочих, казалось ли им, как его Секретарше, что эта Рогаева была красивой. Впрочем, по отношению к погибшему человеку такой странный вопрос, пожалуй, мог бы показаться неуместным. Он зябко поднимает воротник плаща и под секущим дождем, разбрызгивая лужи, бежит через двор обратно в административный корпус.
Но не сразу проходит в свой кабинет. Сначала задерживается немного возле стола Секретарши, с отвращением принюхивается к запаху подгузника, оставшегося в мусорном ведре, потом садится, набирает номер редакции и просит к телефону редактора газеты. Увы, секретарша редакции — тоже, судя по голосу, женщина разбитная и напористая — бодро сообщает ему, что Редактора на месте нет, и более того — в ближайшие пару дней связаться с ним не будет никакой возможности. Ему немного поднадоел весь этот идиотский мир, и он решил уйти на время в полное отшельничество — уж куда полнее, он даже мобильник оставил здесь, в редакции. Впрочем, она готова предложить свои услуги в качестве временно исполняющей его обязанности. Кадровик снова удивляется этой неуемной страсти секретарш брать на себя право принимать решения вместо начальства, но тем не менее представляется ей по полной форме, называя свою фамилию и длжность, и осторожно осведомляетс, известно ли ей что-нибудь о статье, которая должна появиться в пятничном выпуске их газеты. Конечно, известно! Она, оказывается, не только в курсе всех деталей и подробностей, но и более того — даже видит себя одним из активных участников этой истории. Ведь это именно она посоветовала редактору — перед тем как тот уединился от опостылевшего мира — заранее предупредить Старика, какой неприятный сюрприз ждет его в конце недели, чтобы тот успел прислать извинение. «Но в том-то и дело!» — перебивает ее Кадровик. В том-то и дело, что никакого извинения не требуется. Всего лишь разъяснение. Потому что, видите ли, обвинение, которое предъявляется им в этой статье, в действительности основано на ошибке. Они здесь только что закончили первый этап административного расследования и выяснили, что хотя погибшая женщина и в самом деле когда-то работала в их пекарне, но ко времени теракта давно уже не имела к ней ни малейшего отношения. Из чего следует, что руководство пекарни вообще и отдел человеческих ресурсов, который он возглавляет, в частности никак нельзя обвинить ни в бессердечности, ни в равнодушии, ни в недостатке человеколюбия. Поэтому он советует ей — поскольку уединившийся от мира редактор, как это ни удивительно с точки зрения здравого смысла, уединился также от своего мобильного телефона — принять, самой и безотлагательно, решение об отмене злополучной публикации. Проще говоря — выбросить эту нелепую, ошибочную, мерзкую статейку в мусорное ведро. Прямо сейчас. Выбросить. Немедленно и бесповоротно.