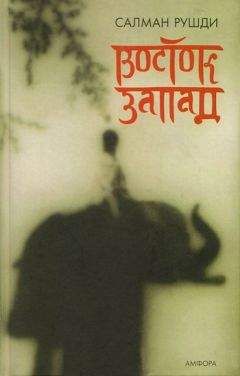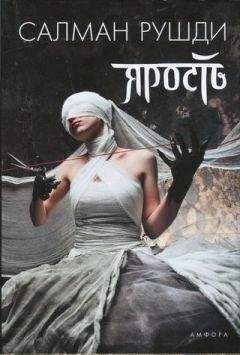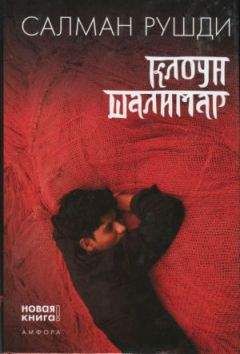Я человек мирской, я принадлежу этой жизни. И смотрю я на сей предмет с точки зрения сугубо светской, иными словами, ценю в нем его уникальность и редкую красоту. То есть, короче говоря, я желаю обладать фиалом, а вовсе не волосом самого пророка… Говорят, американские миллионеры скупают по миру ворованные шедевры, чтобы потом укрыть их в своих подземельях… Да, вот они бы меня поняли. Я не в силах расстаться с прекрасным!
Однако ни один коллекционер на свете еще не смог удержаться, чтобы хоть кому-нибудь не показать своего сокровища, и Хашим тоже поделился радостью, все ему рассказав, со своим единственным сыном Аттой, который, поклявшись молчать, молчал, хотя и терзался сомнениями, и открыл тайну тогда лишь, когда у него больше не стало сил терпеть беды, обрушившиеся на их дом.
Но в тот, первый, день молодой человек лишь извинился перед отцом и вышел, оставив его созерцать свое сокровище. Хашим тогда сидел в своем жестком кресле с прямою спинкой и не сводил глаз с прекрасного фиала.
Каждый у них в семье знал, что среди дня ростовщик не ест, и потому только вечером слуга вошел в кабинет, с тем чтобы позвать хозяина к столу. Слуга застал Хашима в том же виде, в каком его оставил Атта. В том, но все же и не в том — ростовщик к вечеру будто как-то распух. Глаза вылезли из орбит, веки покраснели, а костяшки пальцев, сжатых в кулак, наоборот, побелели.
Вид у него был такой, будто он вот-вот лопнет. Будто из неправедно приобретенной реликвии в него перелилась некая мистическая жидкость, наполнила его целиком и в любую минуту готова была истечь изо всех отверстий телесной его оболочки.
С чужой помощью Хашим все же дошел до стола, и вот тогда в доме и в самом деле случился взрыв.
Ни коим, похоже, образом не заботясь о том, как его речь скажется на заботливо возведенной, хрупкой конструкции, заложенной в основание семейного теплого счастья, Хашим разразился ужасными откровениями, хлынувшими из его уст с такой силой, будто внутри у него забил фонтаном источник. Помертвевшие от ужаса дети услышали, как он, повернувшись к жене, произнес в наступившей вдруг полной тишине, что семейная жизнь их за многие годы истерзала его хуже всякой болезни. «Долой приличия! — гремел он. — Долой лицемерие!»
После чего он довел до сведения семьи, в выражениях не менее грубых, о существовании у него любовницы, а также о своих регулярных визитах к платным женщинам. Сообщил жене, что отнюдь не она наследует главную часть имущества и по его смерти получит всего-навсего восьмую долю, меньше которой оставить нельзя сообразуясь с законом ислама. Затем он перенес внимание на детей и начал с того, что стал кричать на Атту, будто тот недостаточно умен: «Кретин! Наказал меня Бог таким сыном!» — после чего обвинил дочь в похотливости, поскольку та выходит в город с открытым лицом, нарушая правила, непреложные для добрых мусульманских девушек. С этой минуты и впредь, распорядился он, дочь больше не должна покидать женскую половину.
Так ничего и не съев, Хашим ушел к себе, где тотчас уснул глубоким сном человека, наконец облегчившего душу, нимало не заботясь ни о рыдавшем навзрыд оскорбленном семействе, ни о еде, остывавшей на буфете под взглядами остолбеневшего слуги.
На следующий день Хашим разбудил домашних в пять утра, заставив их выбраться из постелей, омыл лицо и принялся читать молитву. С того момента он молился по пять раз на дню, и жена его и дети вынуждены были делать то же самое.
В тот же день перед завтраком Хума сама видела, как слуги по приказу отца вынесли в сад огромную кучу книг, где и сожгли их. Единственной уцелевшей книгой в доме стал Коран, который Хашим обернул шелковой тканью и возложил на столе посреди гостиной. И распорядился, чтобы каждый член семьи читал строфы священного писания не менее двух часов в день. Телевизор теперь оказался под запретом. К тому же Хуме велено было удаляться к себе, когда к Атте придет кто-нибудь из друзей.
С того дня воцарились в доме печаль и уныние, однако худшие беды ждали их впереди.
На другой день к отцу явился должник, который, дрожа от страха, сказал, что не смог раздобыть последней от назначенного процента части, и стал просить небольшой отсрочки, допустив при этом ошибку, напоминая Хашиму, в выражениях несколько дерзких, слова из Корана, порицающие заимодавство. Отец пришел в ярость и отхлестал беднягу кнутом, сорванным со стены, где висели диковинные экспонаты его обширной коллекции.
К тому же, как ни печально, в тот же день, несколько позже, пришел и второй должник, который просил об отсрочке смиренно, но и он выскочил из кабинета избитый, а на правой руке у него кровоточила резаная глубокая рана, поскольку Хашим, посчитав его вором, крадущим чужое добро, вознамерился было отсечь нечистую руку одним из тридцати восьми ножей кукри[12], висевших по стенам кабинета.
И Атта, и Хума невыносимо страдали оба эти дня, глядя на попрание всех неписаных правил их семейного этикета, но к вечеру Хашим перешел уже все границы и поднял руку на жену, когда та, потрясенная его жестокостью по отношению к должнику, попыталась урезонить мужа. Атта бросился к ней на защиту, но отец ударом сбил его с ног.
— Отныне, — заявил Хашим, — вы у меня узнаете, что такое порядок!
С женою ростовщика случилась истерика, которая длилась всю ту ночь и весь третий день, после чего Хашим, утомившись от ее причитаний, пригрозил разводом, и жена его бросилась к себе в комнату, где заперлась на ключ и упала без сил, заходясь в безмолвных рыданиях. Тогда Хума тоже потеряла терпение и открыто воспротивилась воле отца, заявив (с той самой независимостью, которую он всю жизнь в ней поощрял), что не станет более закрывать лица, поскольку, не говоря о прочем, от этого портится зрение.
Услышав ее речи, отец недолго думая лишил Хуму всех имущественных прав, дал неделю на сборы, после чего велел убираться из дому.
На четвертый день страх, поселившийся в доме, сгустился настолько, что стал, казалось, едва ли не осязаем. Именно в тот день Атта и сказан онемевшей от горя сестре:
— Мы зашли дальше некуда, но я знаю, в чем дело.
Днем Хашим, в сопровождении двух нанятых им головорезов, отправился в город выбивать долги у двоих своих неплательщиков. Дождавшись его отъезда, Атта направился к нему в кабинет. Как единственный сын и наследник он владел ключом от отцовского сейфа. Там он и употребил его по назначению, достал из сейфа фиал, оправленный в серебро, сунул в карман брюк и снова запер сейф.
Тогда-то он и рассказал Хуме про отцовскую тайну, под конец воскликнув:
— Может быть, я и сошел с ума; может быть, от того, что у нас произошло за последнее время, у меня мозги набекрень, но одно я знаю точно: до тех пор, пока этот волос в доме, ничего хорошего у нас не будет.
Хума тут же согласилась с братом, предложив немедленно вернуть реликвию в мечеть, и Атта пошел и нанял шикару и отправился в Хазрабал. Однако, выйдя из лодки в толпе безутешно рыдавших верующих, которые толклись на площади возле оскверненной мечети, он обнаружил, что сосуд исчез. В кармане оказалась дыра, которую мать, обычно крайне внимательная к исполнению своих обязанностей, проглядела, по-видимому, из-за последних событий.
После краткой вспышки досады Атта с облегчением вздохнул.
— Подумать только, — сказал он себе, — что здесь со мной сделали бы, если бы я успел объявить мулле, будто привез украденный волос! Этот сброд меня тут же и линчевал бы, никто поверил бы, что я его где-то потерял! Но, как бы то ни было, его больше нет, и этого нам и надо.
Впервые за несколько дней он рассмеялся и отправился обратно домой.
Дома он увидел, что сестра его, избитая в кровь, плачет в гостиной, а мать рыдает в спальне, будто только что потерявшая мужа вдова. Атта кинулся к сестре за объяснениями, желая знать, что случилось, и когда та наконец рассказала ему, что отец, вернувшись после своей мерзкой работы, снова заметил в волнах между причалом и лодкой серебряный блеск, снова наклонился и признал злосчастный фиал, то впал в ярость и принялся избивать Хуму, в конце концов побоями выбив из нее правду, — тогда Атта закрыл лицо руками и заплакал и сквозь слезы не проговорил, а простонал то, что ему тогда пришло в голову, что-то про фиал, который намеренно взялся преследовать их семью и вернулся к отцу, чтобы его руками довершить свое дело.
Теперь настала очередь Хумы придумывать, как избавиться от напасти. На следующий день, когда следы на руках ее и на лице, оставшиеся от побоев, расплылись, утратив черноту, она обняла брата и зашептала ему на ухо, что решила избавиться от этого волоса любой ценой, и повторила эти последние слова несколько раз.