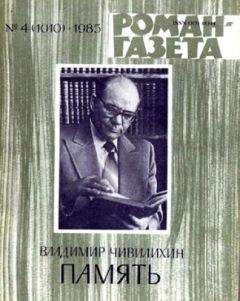И словесная живопись в поэме удивительным образом сочеталась с публицистическими строками, пронизанными любовью к Русской земле, с горькими раздумьями о страданиях родины, с призывами прекратить междоусобные распри и подняться на ее защиту. Кто это мог написать? Вот бы докопаться когда-нибудь! Жизни не жалко.
Долгой и лютой зимой, сидя темными вечерами в общежитии, я читал и перечитывал «Слово». В памяти отлагались фразы и целые абзацы, что сыграло исключительную роль в моей дальнейшей судьбе.
Прошло три года. С отчаянной решимостью подал я заявление и документы на филологический факультет Московского университета, хотя у меня не было аттестата зрелости, а лишь диплом техника паровозного дела. Конкурс по избранной мною специальности в том году достиг двенадцати человек на одно место. Меня отговаривали, запугивали, смеялись надо мной, усиливая мою неуверенность, однако советчики и насмешники не знали, какой год прожил я перед этим. Сначала поступил в вечернюю школу, чтоб пройти ее официальный курс, но тут же бросил — долго, неинтересно, много ненужного и еще больше известного. Прочитал учебники за среднюю школу и убедился, что от неистового глотания всяких книг в моей памяти застряло кое-что сверх программы.
В маленьких местных газетках я печатал свои крохотные заметки, однако главный мой козырь состоял в другом. Зная, что на вступительных экзаменах прежде всего нужно хорошо написать сочинение, я целый год их сочинял. Каждые три дня, без каких бы то ни было исключений, писал и переписывал начисто пяток страниц на какую-нибудь литературную или свободную тему, поставив целью сработать сто сочинений. Не давая себе никаких поблажек в течение пятидесяти недель, написал их за год ровно сто штук, почти полный чемодан. И весь год, кроме того, переписывался по-немецки с одним сибирским другом, свободно владеющим этим языком и согласившимся отсылать мои письма назад со своими поправками. А еще я влез в неохватную русскую историю и так увлекся ею, что по сей день помню много такого, чему в школе не учили, не учат и никогда, наверное, не будут учить.
Экономил каждую вечернюю минуту, прихватывал ночи и до сегодня удивляюсь, как выдержал такое, и как еще выгадывал воскресенья, чтоб удариться в какую-нибудь поездку. Нестерпимая непоседливость одолевает меня всю жизнь, мешает серьезно работать, а тогда ее было с лихвою. Побывал я в Ясной Поляне и на Куликовом поле, расположенных по разные стороны, но совсем неподалеку от станции Узловой, где я тогда работал, у истока Дона, в Богородицке и Епифани, езживал в Тулу и Москву.
К тому времени моя парторганизация приняла меня кандидатом в члены ВКП(б), но в автобиографии, поданной вместе с документами в университет, не счел нужным об этом упоминать, потому что не прошел еще утверждения горкома и, кроме того, думал— какой же я буду большевик, если не выдержу конкурса? Больше всего дрожал, естественно, перед экзаменом по русской литературе — поступал я на филологический, в сущности, не имея на то никаких оснований, а лишь формальное право выбрать со своим техникумовским дипломом любой вуз. Этому главному вступительному экзамену в МГУ тоже суждено было через много лет пустить начальные корни в настоящее повествование…
Принимал его небольшой подвижный человек, язвительный, придирчивый, совсем не похожий ни на добрых моих тайгинских учителей, в том числе и эвакуированных из Ленинграда, которых я свято помнил и чтил, ни на благообразных и снисходительных университетских профессоров, какими они представлялись мне в мечтах. Сдавалось, что он согласился взять на себя роль главного сита, и отсев шел быстро и безжалостно. Как ошпаренные, выскакивали в коридор хорошо одетые молодые люди, что за полчаса до того, снисходительно вещали о литературных тонкостях в кругу трясущихся девушек, со слезами на глазах выбегали и эти несчастные абитуриентки-провинциалки, с недоуменьем на лицах выходили из аудитории совсем недавно веселые медалисты и злые молчуны моих лет и постарше. По алфавиту я стоял в конце списка и когда вошел в кабинет, то увидел, что готовящихся к ответу скопилось с полдюжины и никто из них не рискует выйти к столу, за которым сидел маленький человек с нервным нетерпеливым лицом и молодая женщина — в коридоре говорили, что это аспирантка и будто бы добрая. Взял я билет, сел поодаль и понял, что пропал, — не знал как следует самого первого вопроса. Не помню уж точно, как он был сформулирован, но речь шла о революционно-демократической литературе шестидесятых годов. Говорить на эту тему я, конечно, мог, но вокруг да около, без уверенности и подробностей, потому что вопрос ставился как-то слишком уж теоретически. А тем временем вызвали к столу красивого стройного юношу с галстучком-шнурочком, и я стал слушать его ответы, потому что мне теперь было все равно. Преподаватель спрашивал как-то странно — то и дело перебивал, ставил вопросы так, что надо было думать не об ответе, а о вопросе, и по всему было видно, что ему невыразимо скучно слушать этот литературный детский лепет. Юноша скоро и тихо провалился, удалившись с таким достоинством необыкновенным, что я даже позавидовал ему. Снова никто не решался идти к столу, и тогда я — будь что будет! — по-школьному поднял руку и поднялся сам.
— Без подготовки? — пронзительно спросил экзаменатор, с прищуром разглядывая худого сутулого очкарика в железнодорожном кителе. — Пожалуйста!
Он взглянул в мой билет, отодвинул его в сторонку, сухо заметил, что эти вопросы я, возможно, знаю, бывает, и для начала предложил перечислить шестидесятников, каких я прочел. Среди других я неожиданно для себя назвал Ивана Кущевского и тут же горько пожалел об этом.
— Кущевского?! — удивился экзаменатор, — Что же именно вы его прочли?
— А у него только один роман «Николай Негорев, или Благополучный россиянин».
— Ну, положим, у него есть кое-что еще, — услышал я холодный голос. — Хотя роман, верно вы заметили, один. Что же вы запомнили из этого романа?
А я ничегошеньки не помнил! Проглотил книгу подростком, дело было еще на родине, в Сибири, и роман этого прочно забытого русского писателя попал мне под руку, наверно, единственно потому, что был напечатан до войны в каком-то местном издательстве. И тут меня выручила одна странная особенность моей памяти — я могу не запомнить многих героев, канвы произведения, не знать его значения в ряду других и тому подобного, но какие-то важные, переломные, критические ситуации способен представить как въяве, а характерные главные слова и целые диалоги способен могу помнить десятилетиями.
В необъятной русской литературе живет множество бессмертных строк, пронзающих мозг и сердце; у меня они одни, у тебя другие, у кого-то третьего врубились в память заветные слова, совсем не похожие на наши с тобою, и это прекрасно, что каждый находит в океане чувств и мыслей, завещанных русскими писателями прошлого, свое, созвучное лишь своему душевному ладу. Признаюсь, что на меня избранные такие слова всегда производили необъяснимое действие, почти физическое, — вначале ощущаю какой-то жутковатый холодок на спине, потом почему-то жар в груди, першенье в горле, и ладно, если все это не кончается слезой, которую чем крепче держишь, тем она жиже и текучей.
Давным-давно, например, прочел я сочинения протопопа Аввакума. Меня поразил тогда беспощадный и страстный язык этого замечательного русского публициста, но из всего «Жития», переполненного описаниями неимоверных страданий автора, зримо вижу один только эпизод. Вот бредет Аввакум с измученным своим семейством по ледовой сибирской дороге. Супруга его, обессилев, падает и встать не может. Он подходит, а она спрашивает: долго ли, протопоп, будут муки сии? «Марковна, до самыя до смерти!» Она же, вздохня, отвещала: «добро, Петрович, ино еще побредем»…
И, кроме того, меня всегда удивляли встреченные люди, что читали книги, но каким-то образом пропускали мимо себя автора, не интересовались им и даже не запоминали его фамилии. А мне часто об авторе было читать увлекательней, чем книгу его…
— Так что же вы запомнили из этого романа?
Мне вдруг ясно представился один эпизод, повествования Ивана Кущевского — дуэль между двумя его героями. Один из них, барон Шрам, негодяй и ничтожество, раненный легко и неопасно, мерзко скулит, а народоволец Оверин, присутствовавший при сем в качестве секунданта, берет из чемоданчика врача хирургический ланцет, с рассеянным видом, как доску, протыкает себе насквозь ладонь и спрашивает, кому больней. Еще запомнилось, что в тюрьме, куда попадают эти герои, мужики сразу их раскусили, назвав святого фанатика Оверина удивительно хорошо и точно: дитя думчивое .
— Как? — приглядываясь, спросил преподаватель и тут же быстро отменил свой переспрос. — А что вы можете сказать об авторе?
— Иван Кущевский родом из Сибири, — начал я, припоминая предисловие к роману. — Учился в Томской гимназии. Приехал без средств в Петербург поступать в университет, не попал, работал — где ни попадя, голодал, часто болел, роман свой в больнице написал и вскоре умер, еще совсем молодым. В больнице его, кажется, навестил Некрасов…..