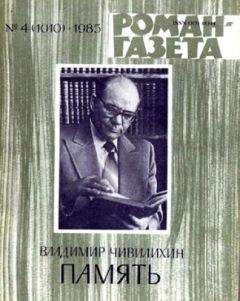В начальный месяц московской моей жизни набросился я на книги, нужные по программе и совсем не нужные, библиотечные и магазинные. В книжных магазинах тех времен можно было дешево приобрести такое, чего сейчас уже не найдешь ни за какие деньги даже у матерых букинистов. Часто бывал я в маленьком и узком, как пенал, букинистическом магазинчике, что выходил дверью на улицу Горького рядом с Театром имени Ермоловой, — на этом месте сейчас стоит мрачноватый и высоковатый для центра Москвы параллелепипед новой гостиницы. Больше облизывался, конечно, чем покупал, однако в первую же свою, стипендию, а она была двойной, сентябрьско-октябрьской, схватил новую, только что изданную тиражом десять тысяч экземпляров книгу, мгновенно ставшую редкостью. Странно, однако, что букинисты почему-то уже успели тогда уценить ее, и досталась она мне за пятьдесят четыре тогдашних рубля. Напечатана вся книга нонпарелью на тончайшей рисовой бумаге, по габаритам скромнее многих современных романов, но в ней свыше полутора сот печатных листов и больше полутора тысяч страниц! В том году исполнилось сто пятьдесят лет со дня рождения А.С. Пушкина, и это юбилейное издание великого русского поэта, прозаика, драматурга, критика и публициста содержало полное собрание его сочинений в одном томе. Заветную эту книгу в малиновом переплете, как и «Слово о полку Игореве» под редакцией академика А., С. Орлова 1938 года издания, я берегу до сих пор, раскрывая их время от времени…
А в день покупки пушкинского однотомника, вспоминаю, наша группа надумала выехать за город. Усадьба Архангельские поразила меня. После неприбранных периферийных городков, знакомых мне с детства дымных паровозных депо и темных шахт, после шумной и тесной Москвы, вокзального и университетского пестрого многолюдья тут было настоящее празднество красоты, царство покоя и гармонии. Правду сказать, я даже не предполагал, что такое может вообще существовать. От прекрасного дворца, стоящего на возвышении и украшенного ослепительными колоннами, открывался чарующий вид на чистый, ухоженный парк, в который надо было спускаться каменными лестницами. По сторонам верхней террасы росли знакомые мне лиственницы с их желтеющей хвоей, покорной всякому ветерку, а в середине Геракл подымал Антея. Белоснежные балюстрады, фонтаны, бюсты и статуи древнеримских богов и героев, зеленый ковер парка, стриженые липы, манящие пейзажи за старым руслом Москвы-реки говорили об иной жизни, иных временах, то есть обистории. Кто и когда создал всю эту сказку, кто и когда любовался ею, как любовались ею мы — недавние рабочие, школьники, солдаты-фронтовики?
— Тут сам Пушкин бывал, — сказал один из нас. — И У него есть стихотворение «К вельможе», тогдашнему владельцу этого персонального дома отдыха.
Да, вот она, доска со стихами. Конечно, я когда-то читал это стихотворение, но запомнил лишь первые строчки, а здесь они звучали как-то по-особому.
От северных оков освобождая мир,
Лишь только на поля, струясь, дохнет зефир,
Лишь только первая позеленеет липа…
— Весной, значит, — вставил кто-то из ребят.
К тебе, приветливый потомок Аристиппа….
— Что за Аристипп? — раздался тот же голос.
— Да не мешай ты!
К тебе, приветливый потомок Аристиппа…
К тебе, явлюся я; увижу сей дворец,
Где циркуль зодчего, палитра и резец
Ученой прихоти твоей повиновались
И, вдохновенные, в волшебстве состязались…
Дальше никто не помнил. Тогда я достал из портфеля покупку, нашел по алфавитнику двести сорок восьмую страницу. Подзаголовком в скобках значилось слово, написанное, очевидно, в оригинале рукою Пушкина: «Москва».
Ты понял жизни цель: счастливый человек,
Для жизни ты живешь. Свой долгий ясный век
Еще ты смолоду умно разнообразил…
В этом длинном стихотворении многое было непонятно, особенно в той его части, где подробно описывались европейские путешествия и знакомства вельможи. Ну, с Бомарше, Вольтером и Байроном было ясно, барон д'Ольбах — это, наверное, французский энциклопедист Гольбах, Дидерот — Дидро, а кто такие Морле, Гальяни, безносый Касти и «Армида молодая», что это за «афей» или «циник поседелый и смелый», который в каком-то Фернее «могильным голосом» приветствовал богатого русского гостя. Что значит «обедать у Темиры»? И блеск какой Алябьевой ценил когда-то владелец дворца?..
У меня хранится любительская фотография в память того посещения Архангельского; я сутулюсь на краешке нашей группы с томиком Пушкина под мышкой, тощий и черный с лица, на котором застыло недоуменье. И оно, помнится, связывалось у меня не только с теми неясностями, что я перечислил выше. Был еще один вопрос, главней других. Почему Пушкин, это рассветное солнце и чистая совесть нашей литературы, оправдывает паразитическую жизнь вельможи, поэтизирует ее? Я помнил вольнолюбивые стихи поэта, и вдруг — воспевание «благородной праздности», «неги праздной» и даже вроде бы извинительная благодарность хозяину между строк. Но разве праздность могла быть благородной, когда «везде бичи, везде железы, законов гибельный позор, неволи немощные слезы»? В стихотворении, которое прямо противозвучало обращению к вельможе, Пушкин писал:
Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца,
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти бесчувственной злодея…
Там же Пушкин мечтает, чтобы рабство пало по манию царя; я больше понимал автора, когда он говорил не о «благородной праздности», а о «жестокой радости»:
Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу.
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Очевидно, я судил тогда с позиций своего, как говорится, пролетарского происхождения, потому что недоумение и неясность остались, и, покидая Архангельское, я был уверен, что приеду сюда еще не раз — посмотрю и дворец, и парк, постою на крутояре, у южного фасада, откуда открывается чарующий вид на ту сторону старицы Москвы-реки, за которой окружающая тебя организованная красота как-то естественно переходит в красоту природную, просторную и свободную красоту лугов и лесов.
Перед зимой я записался во французскую группу, полагая, что легче будет узнать, кто такие Морле, Гальяни и безносый Касти, стану в подлиннике читать Бальзака и Мопассана. Добился также места в общежитии, в комнате на двенадцать человек, и побежали такие издалека прекрасные студенческие, дни, хотя и полуголодные. Если б не спасительница-столовка с бесплатным хлебом, горчицей и самым дешевым продуктом питания — чаем, коим от веку славилась Москва!..
Даже спортом я начал было заниматься. Без тренировок пробежал дистанцию во время курсовых лыжных занятий на второй разряд, и меня взяли в университетскую сборную. Однако спортсмена из меня не вышло — видно, харч был не тот, и на одной из тренировок что-то сделалось с сердцем и врач категорически запретил мне лыжи. Это показалось мне большим преувеличением — ведь на лыжах я вырос, — и вскоре снова по воскресеньям начал потихоньку расхаживаться. Не стоило бы об этом упоминать, если б не случайное открытие, наградившее меня однажды во время загородной лыжной прогулки незабываемым впечатлением. Побродив полдня по перелескам близ Ленинградского шоссе, я неторопливо шел широким долом к Фирсановке, где располагалась лыжная база.
Слева побежала на пологую гору какая-то деревенька. «Лигачево», — сказали мальчишки с санками. Справа над логом вздыбилась гора с церковкой на покатости, потом крутой земляной уступ навис, за ним лес загустел и, когда лыжи заскрипели по ровному насту — пруды застывшие и заснеженные, что ли? — на горе показалось какое-то белокаменное строение. До него было высоко. Круто вверх шла широкая просека. Вдоль подымались высокие старые лиственницы. Они были голы по-зимнему — и будто мертвы. А там, наверху, стояло в акварельно-синем небе старинное здание с ротондальной колоннадой понизу, высокими окнами на два закругленных этажа, с бельведером над крышей, куполом и шпилем.
Первое, что я увидел подле дома, был стройный обелиск черного мрамора. Кто это тут похоронен? «Певцу печали и любви…» По надписи на другой стороне цоколя узнал, что обелиск установлен к столетию со дня рождения Лермонтова, который, оказывается, жил здесь, в Середникове, имении Столыпиных, родственников его бабушки, четыре лета, когда учился в Благородном пансионе Мюральда, а позже в Московском университете.