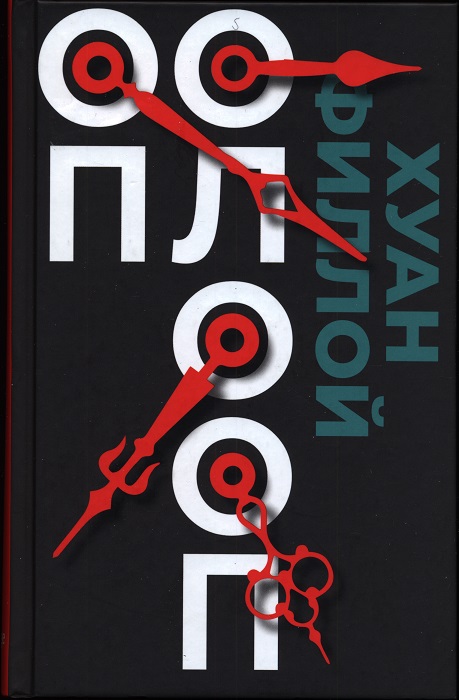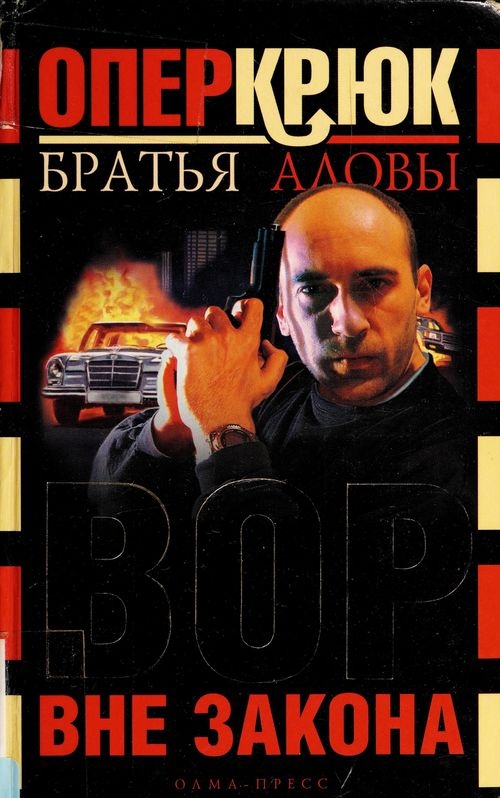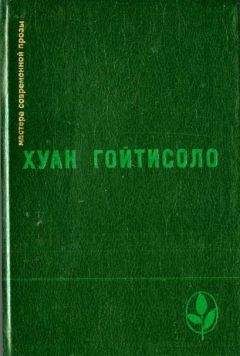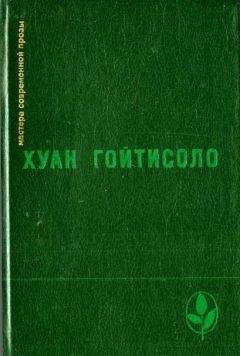В этот момент статистик испытал непередаваемое отвращение к своему «я». Напрасно он воспитывал свои чувства в строгой атмосфере лишений и невозмутимости, приучал свой темперамент к синестетической гармонии. Всегда гордившийся своей сверхнейтральностью, высшей формой нейтралитета, обретенного через адаптацию и психологический абсолютизм, он вдруг осознал ничтожность своих теорий перед лицом материального, перед лицом случая.
Chauffeur заметил в зеркало заднего вида странное поведение пассажира и, недовольно полуобернувшись, требовательно спросил:
— И долго мне еще наматывать круги?
— Продолжайте!
Водитель вдавил газ до отказа.
Эта передышка стала целебным бальзамом. Вопрос водителя помог Авенида-де-Майо занять привычное драгоценное место в голове Опа Олоопа. Для человека, утратившего возможность сконцентрироваться, совпадение картинки с реальностью означает возврат здравого смысла, ritomo all’antico, [9] к норме. Он сумел оценить произошедшее. И несколько раз жадно вдохнул благодать исцеления.
Но дух состоит из проспектов, улиц, переулков… Великолепных кварталов с богатыми магазинами. Наводящих тоску грязных районов. Темных и безнадежных тупиков. Все в нем устроено так же, как и в жизни! Напротив чувственной, роскошной, переливающейся огнями Флориды мрачно стоят печально известные Рековас, где кишат пороки и бурлят инстинкты. Рядом с величественными дворцами искусств, банками и особняками высокого света ютятся в лачугах несбывшиеся призвания, безразличие ночует в трущобах Вилья-Десокупасьон, и, не останавливаясь ни на миг, копошится в отбросах нищета…
Оп Олооп недолго держался прямой дороги… Образы, скользнувшие по его чувствам, омывшие их чистой реальностью прошлого, вновь начали путаться между собой. Он уже не мог ничего различить, его окружила паутина абсолютной тишины. И сквозь эту паутину абсолютной тишины со скрежетом прорезалось назойливое жужжание, оно то отдалялось, то приближалось, царапало изнутри стекло его глаз, заставляя закрыть их, раздирало раковины ушей, заставляя распахнуть их, чтобы подарить спасительный шум, недолгое спасение от окружающего ужаса.
Жужжание не прекращалось ни на миг. С каждым поворотом это чувство немного отступало и стихало, но затем возвращалось и снова преследовало его мозг, подобно охотничьему соколу.
12.50
Непрекращающиеся гримасы, ужимки и кривлянья привели к тому, что в двенадцать пятьдесят chauffeur, не в силах более сдерживаться, резко затормозил:
— Скажите, сеньор, сколько мне еще наматывать круги? С вас уже шесть восемьдесят!
— Хорошо. Возьмите.
Он с трудом вышел из машины. И, пока водитель пытался отсчитать сдачу с десяти песо, Оп Олооп увидел другую машину и крикнул:
— Такси!
По дороге ко второму такси его могучее тело раскачивалось, как камень на краю пропасти. Сев в салон, он услышал:
— Вы не взяли сдачу, сеньор.
— Засуньте ее себе в задницу!
Он ответил автоматически, по наущению какого-то духа-матерщинника, дремлющего в его сознании. Оба chauffeurs остолбенели, Оп Олооп же даже не смутился. Сказанное настолько не соответствовало его складу ума, что он попросту не услышал своих слов. И когда новый водитель неуверенно спросил его: «Куда, сеньор?», он ответил одновременно вымученно и радостно: «Вокруг площади».
Зависть, раздражение и гнев не имели постоянной прописки в его душе. Но все же низкие чувства бродяжничали в ней, как в душе любого из нас. Воспитание морального «я» сегрегирует и подавляет их, но они всегда готовы вырваться на свободу, как только ослабнет воля или поддастся безумию разум.
Оп Олооп был воплощением церемонной торжественности self control. Те, кто живет, постоянно контролируя, ограничивая и направляя себя, неизбежно, сами того не желая, приобретают безупречные манеры. Корректность. Опрятность. Непогрешимость. Слова, жесты и действия выверены и отточены многолетним трудом. И человек глупеет. Потому что, когда уважение к другим начинается с себя, самоуважение раздувается до чрезмерных пределов.
Еще печальнее то, что разум не фиксирует собственных ошибок. И тогда рано или поздно другие подмечают, что внутренний цензор человека впал в спячку и что в личности его наступил полный разлад. Таксисты сразу обратили на это внимание. Тот, что вез его вторым, подкрутил счетчик… Они проехали не больше трех кругов, а сумма уже составила четыре песо десять центаво.
Статистик не заметил этого. Не мог заметить. Его взгляд уперся в жужжание, взяв на себя работу слуха, бездыханно почившего в многоголосье городской суеты. При синопсии зрение начинает слышать. Болезнь наделяет его характеристиками других чувств. Оп Олооп непонимающе замер, у него словно перепутались нервные окончания, идущие в мозг, и теперь он слышал глазами и трогал обонянием.
Могло ли жужжание обозначать траекторию его помрачения? Стать звуковой волной мысли, мечущейся в попытках разбить туманное узилище? Непросто понять ускользающую природу жужжащей мглы! Он впал в исступленное возбуждение, в таком же состоянии Рембо написал свой сонет «Гласные». Непродолжительный раптус. Лицо Опа Олоопа ожило и исказилось резко сменяющими друг друга гримасами. Оп Олооп переживал что-то, что нельзя выразить словами. На экране его бледной кожи плясали ужасы из коллекции страшных масок. Сардонически кусали его. Его душа была смятена, сморщена и перекручена. Его рот изрезали шрамы страха.
Еще два круга.
Скорость вдохнула в него свежесть. Шрамы и гримасы отступили, и на его лице застыла маска восхищенного ангела, глубокая улыбка которого лучилась физическим светом.
Без видимой на то причины он радостно поаплодировал сам себе, несколько раз хлопнув в ладоши. И крикнул:
— Сворачивайте на Кальяо. Быстрее. Быстрее!
Жужжание, несомненно, исчезло, кристаллизовавшись в его голове во что-то более вещественное. В идею? В чувство? Зачем понадобилось столько кругов вокруг Пласа-дель-Конгресо?.. Возможно, его внезапный порыв был подобен импульсу почтового голубя, который тоже сначала выписывает круги, чтобы сориентироваться на местности… Или непонятным собачьим метаниям перед сном… Иногда инстинкт кажется запертым в разомкнутом кольце. И тогда приходится кружить. Вращение помогает ему найти разрыв и вырваться наружу, чтобы сделать свое дело.
Еще больше поспособствовал прояснению разума Опа Олоопа неосторожный торговец фруктами. Бедняга вышел в неположенном месте из-за припаркованного у обочины грузовика и был сбит машиной. Ушибы. Две перевернутые корзины.
Появился представитель власти:
— Скажите, сеньор, вы что-нибудь видели?
— Ничего. Я думал о Франциске. О Франциске Оэрее.
Невинный свет, которым лучилось лицо Опа Олоопа, произвел на инспектора полиции дурное впечатление. Не сдержавшись, он пробормотал:
— Какая чушь! Такой здоровенный лоб — и думает о какой-то ерунде…
Оп Олооп действительно не видел ничего вокруг. Он ехал в благостном полуобмороке-полусне. И продолжал пребывать в этом состоянии.
— Зайдите завтра в участок.
— Ничего. Я думал о Франциске. О Франциске Оэрее.
— Я не с вами разговариваю, сеньор!
Отпустив машину, инспектор остался в большей степени заинтригован состоянием ее пассажира, чем дорожно-транспортным происшествием. И из чистого любопытства отправился за автомобилем на своем side-car. [10]
За годы полицейской службы он усвоил важную науку: науку о случайностях и мелочах, которые выступают предвестниками чего-то большего. Предчувствие, порыв, импровизация всегда давали ему лучший результат, чем взвешенный и разумный подход. Получив очередную нашивку, он погрузился в сложные размышления о том, как происходит зачатие и вынашивание преступления. Ведь любому нарушению закона предшествует духовная беременность, а пытливый и опытный взгляд может предугадать, когда преступник разродится от бремени. Многие детективы из «Личной безопасности» и «Общественного порядка» были настоящими повивальными бабками, специализирующимися на абортах преступлений. Так почему бы не последовать их примеру? Он кое-что заметил. У некоторых преступников внутреннее давление столь высоко, что опухает голова и раздуваются глаза: они буквально потеют своей судьбой, прежде чем кровавыми родами произвести на свет преступление. На этот раз, правда, инспектор этого не увидел.