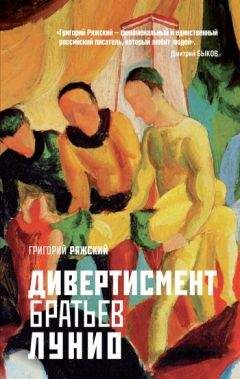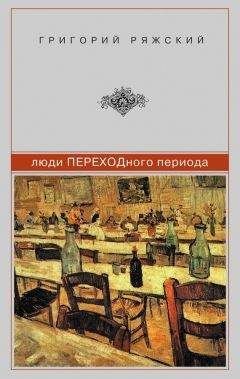Спорить я не стал, слова Юлькины показались мне тогда вполне разумными. И даже отчасти заставили меня с ней согласиться. Да мне и всё равно было, если честно, по мне хоть Селёдкины б мы были, только бы вместе. Я ведь всё равно тайно ото всех считал, что всегда буду Гиршбаум, – и по внутренним ощущениям, и по семейной памяти, и по морде лица моего. Больше всего мне хотелось, даже утром тем же самым, снова оказаться в постели с Юлькой. И снова любить её без роздыха и без перерыва.
Утром я отвёл Машеньку в школу, заранее имея там договорённость, что её возьмут. Затем вернулся, забрал Юльку, и мы с ней поехали в ЗАГС, где подали бумаги. К завтрашнему дню они всё пообещали оформить и ждали на регистрацию.
А вечером мы, уложив дочь, сели за стол, как тогда, на Фонтанке. Я купил водки, тоже чтобы всё было как в прошлый раз, и мы налили себе две стопки. Выпили и поцеловались. И тут она говорит:
– Ты Машку собираешься удочерять или как?
Я даже поперхнулся.
– Разумеется, – отвечаю ей, – и чем скорее, тем лучше. Я с первого дня, как увидел её, сразу же понял, что это и есть моя дочка.
– А можешь тоже быстро её удочерить? – спрашивает Юля. – Ну чтобы я не дёргалась. Не хочу безотцовщины, пускай у девочки нашей папа будет, законный. Она и так истосковалась по мужчине в доме, которого бы она могла полюбить как родного.
– Завтра всё узнаю и скажу, думаю, очень оперативно всё сделает, у меня человечек есть, он устроит, – обнадёжил я.
Начхоз Пыркин и устроил всё. Два звонка и самый невидный уральский камушек из мелкоты. Четыре дня получилось, вместе с документом, раньше не смог. Но и это было сверх нормы.
В этот день, как на руки получил документ, она и говорит мне:
– Мне надо завтра уехать в Ленинград, ненадолго.
Я отставил тарелку и уставился на жену.
– Как это? – спрашиваю. – Вместо медового месяца, что ли?
– Никуда месяц этот не денется, Гриша, – на полном серьёзе отвечает Юлька, – запиши на меня сколько там набежит за время моего отсутствия оргазмиков, я потом тебе все их верну, обещаю, – и наливает нам по новой.
И выпивает, без меня. Я паузу выдержал и спрашиваю:
– А что случилось, Юль? Я могу это знать хотя бы как твой законный муж?
– Мне нужно сделать с отцом последнее дело, – отвечает моя жена. – И заодно свидетельство ему о браке наше в морду сунуть. И больше не видеть его и не знать.
– Да что такое, Юль, ты мне что, так ничего и не скажешь? – не унимался я, чувствуя, что на душе у меня снова собирается что-то очень нехорошее и опасное.
Она выпила опять, снова одна, поставила стопарь на стол и медленно так выговорила:
– Ты мне, пожалуйста, тут сцен не разводи семейных, ты мне по гроб жизни обязан, Лунио, я тебе жизнь спасла, если хочешь знать.
И снова налила. А моя вторая стопка так и стояла нетронутой.
Тут меня проняло наконец. Я подумал, чёрт побери, да что я, тряпка, в конце концов, мужик я или не мужик, что она себе позволяет, не успели даже пожениться, а она уже слова разные мне выговаривает! Встал и говорю:
– Значит так, Юля. То, что ты сейчас говоришь, слушать мне крайне неприятно. Я хочу, чтобы мы с тобой объяснились, потому что из слов твоих я ничего не могу понять. Ты полагаешь, что если мы спим в одной постели и я не скрываю при этом, что очень тебя люблю, тебя и Машеньку, то это может означать спасение моей жизни? Я правильно тебя понял, скажи?
Она посмотрела на меня очень спокойно, как будто все мои слова пролетели через неё насквозь, не зацепив даже малым краем, затем опрокинула очередную свою и так же хладнокровно, как и смотрела, сказала:
– Сядь, Лунио, и слушай сюда. Внимательно слушай и запоминай, может, пригодится ещё в жизни. Жизнь ведь не такая длинная и понятная штука, как может показаться. Даже если лагерь её тебе не укоротил и война. Я тоже кое-то про неё знаю, успела узнать, так уж получилось.
Я снова сел и замолчал. Мне показалось, что сейчас будет лучше не перебивать её, а выслушать. Вряд ли она брала меня на пушку. Уж слишком это всё не походило на розыгрыш.
– Сначала они на кухне были у нас, жрали там. То есть отец стоял и говорил ему, а тот жрал, сметал всё подряд. А я слышала, у меня дверь не была прикрыта, как я всегда делаю.
– Кто жрал? – не понял я, но она остановила мой вопрос рукой и стала говорить дальше.
– Этот жрал, с губой который. У него ещё шрам под ней был, я успела разглядеть, когда он уходил от нас, я в тот момент выглянула. Так вот. Это в самый первый день ещё было, когда отец с севера вернулся, из командировки своей. Вечером, довольно поздно. Он пришёл, но не позвонил, а постучал к нам в дверь, тихо, даже поскрёб, а не постучал, я еле сама услышала и пошла отцу сказать. Но тот уже сам открывал. А я к себе вернулась. Машка спала уже. И они на кухню сразу ушли, из прихожей.
Сначала неразборчиво говорили что-то там, а потом громче уже стали, думали, спят все, не слышат. Этот говорит отцу, что, мол, вы не беспокойтесь, Григорий Емельяныч, всё будет чики-чики, приморю Гиршика этого, не вопрос. Пёрышко моё аккуратное, чистое, я его сзади сработаю, пришью тока так, он у меня «мама» пикнуть не успеет. Зря его пахан наш помиловал тогда, не пришлось бы перо теперь тупить об седло его. Хотя, с другой стороны, и вы б меня тогда не вытащили с лагеря, так ведь, Григорий Емельяныч? И ухмыляется. И жрать продолжает, ужас, видно, голодный был какой, я у себя даже слышала, как чавкает.
А отец разозлился, помню, страшно и говорит ему сквозь зубы. Ты, говорит, Мотя, лишнего не болтай тут про пришью – не пришью, ты слушай лучше и запоминай. Приказ свой по Гиршу пока отменяю, ты понял? Не было никакого приказа, и разговора нашего не было, и никаких «двенадцать» часов не надо тебе теперь. Нужно будет, скажу дополнительно. Делаешь только другое, что велено, завтра, днём, когда неприметней, и мне докладываешься, а дальше, говорит, я буду по тебе отдельно решать, куда тебя и как. Смотря как с делом справишься. Ты меня понял, Мотя? А потом говорит, всё, хватит жрать, отрывай жопу свою от моего стула и вали отсюда. И смотри не влипни. Засыпешься, лично дело возьму твоё и расстрельным сделаю, усёк? Ну тот сразу выкатился с кухни и в прихожую, уходить. Там я на него и посмотрела мельком.
Она закончила свой короткий рассказ, налила себе и спросила меня:
– Тебе эта история о чём-то говорит?
Я не ответил, я всё ещё прокручивал в голове только что услышанное. Выходило, что в первый раз, когда он меня к 12.00 на скамейку в сквер тот вызвал, я уже был им приговорённый. Ну правильно всё – ювелирку забрал, а все концы в воду. И если бы я потом не решил навестить Фонтанку свою и не напоролся там у себя на него же, то сейчас уже не был бы живой. И он, забирая меня из лагеря, уже заранее знал всё, что со мной сделает. И для этого выдернул оттуда же Мотю. И провёл обоих по амнистии, получается. И тот ехал нашим же поездом, и я его видел, это был он, вот почему мне пассажир тот знакомым почудился, с кульком который и спешил ещё.
Голова пухла от этой ужасающей новости, но ещё больше от нечеловеческой несправедливости, которая лишь по случайности не сотворилась.
– И ты... – начал я.
Но она уже подхватила сама:
– И я, когда ты представился сначала, что Гиршбаум, – а тот, со шрамом, Мотя который, про Гиршика сказал, – я и догадалась, что речь-то о тебе и шла, и ни о ком ещё. И приказ отец насчёт тебя давал свой.
– Как ты думаешь, почему он так поступил? – выговорил я и опрокинул в рот свой стопарь.
– Почему отменил? – уточнила она. Я кивнул. – Потому что решил меня тебе подставить, это лучше. Так он ещё и от меня избавляется с Машкой, в надёжные руки пристраивает. Ты ему, наверное, понравился, так что он решил тебя на мне проверить сначала, а уж потом убрать, если надо. Он такой, отец мой, он страшный человек, он всегда таким был, его мама ещё моя боялась, я помню.
– И? – я ждал того продолжения, про которое уже знал, что именно его сейчас услышу.
– И? И сказал мне, что не придёт ночевать и что я должна ему буду утром ответ дать, беру я тебя или не беру для жизни с собой.
– И? – я хотел слушать ещё, хотел услышать последний звук, последний удар.
– И? И я сказала. Он утром вернулся когда, то первым делом ко мне зашёл, разбудил и спрашивает, что, ну чего, мол, у вас там. Я говорю, что у нас с тобой всё отлично, и что ты мне нравишься, и что я согласна жить с тобой вместе. И заснула. А проснулась, когда вы с ним уже уехали сюда. Вот и вся история. Так что с тебя причитается, Гиршбаум-Лунио Григорий, муж-жених Юлии Маркеловой. А отец мой – убийца, и я хочу ему это сказать в лицо. Но только после того, как он сделает то, что обещал. Вот за этим мне нужно в Ленинград.
Я помолчал и налил себе ещё. И сказал ей:
– Я тебя не пущу туда, Юля. Я не хочу, чтобы ты ехала. Теперь это не только глупо, но ещё и опасно.
– Давай по последней, Гришенька, хлопнем и спать. А завтра видно будет, ехать или не ехать, – спокойно ответила Юля и влила в себя остатки водки. – И пойдём, я хочу, чтобы ты взял меня сейчас так, как будто это у нас с тобой в последний раз, ладно? – и засмеялась.