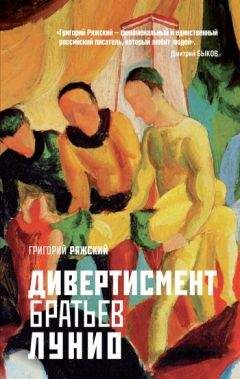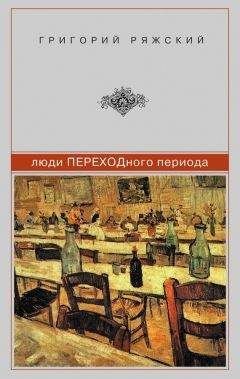Что касалось упаковочной фабрики, то она воспринималась в семье только как место дедовой работы и никак иначе. И когда Иван упомянул о ней в связи с самим собой, я удивился. Хотя понял, что удивился, не сразу.
– Давайте, может, отойдём? – не дожидаясь дядькиного ответа, предложил я. – Не стоит, наверное, на проходе.
Около часа мы просидели в скверике у ДК. Знали, что нас ждут домашние, но к концу этого часа мы так же знали, что никакого востока на свете нет и никогда не существовало. И что этот гвардейского фасона великан с упаковочного предприятия и есть наш кровный отец. Верить этому, в общем, хотелось, но и до конца поверить было невозможно. Не сходилось. Ни по росту, ни по весу, ни по разговору, ни по нашей матери, умершей четырнадцать лет назад.
– А как же мама наша, Дюка, могла с вами жить при такой разнице в размерах? – под конец спросил его Няма. – Так же просто не бывает. Так не может быть никогда. Вы знаете другие такие случаи?
– Да полно, пацаны! – не растерялся Иван, чувствуя, что сейчас он, срывая прикипевшую ржавчину, положив с прибором на незыблемые прежде принципы и на усохшую розу ветров, медленно и со скрипом открывает для себя новую страницу всей своей монотонно-бестолковой и однозвучной жизни. И страница эта поддалась, стала вроде отворяться, и не выскочил никто из межстраничного промежутка, и не гаркнул на него ненавистным ором, что, мол, а не пошёл бы ты, Иван, отсюда куда подальше и пошустрей.
Многое мы прояснили за то время, что просидели перед ДК. Немало доварили уже и сами. И всё же на этом раннем этапе один вопрос оставался для нас пока ещё неотвеченным и касался он того, почему родной отец, зная, что мы остаёмся без родителей, за столько лет ни разу не объявился в нашей жизни.
Гандрабура помолчал, потёр переносицу длиной с оба Няминых уха и ответил загадочно и понуро:
– Это проблема обиды.
И всё. Больше никак не прокомментировал. Но согласитесь, неплохо ведь. В любую сторону возможны метастазы, и поди теперь разберись. И главное, совпадало с рассказом нашего деда.
В тот день мы опоздали к ужину, чего раньше не бывало. Гирш дёргался, знал, как все у него любят точность. И ещё всегда боялся, как бы не обидели нас, тем более когда мы с инструментами в руках. Задерутся, наиздеваются, отымут или разобьют. Карлики ж, чего там – смех да забава для чёртовой этой провинции.
Когда пришли, помыли руки и уселись за стол, он сразу понял, что произошло нечто. А Франя – нет, не дотумкала ничего, не просекла. Ужинали почти молча. Знали и мы, и Гирш, что будем говорить. И после клубники с мороженым пошли к нему, не сговариваясь, оставив Франю убирать со стола.
– В чём дело, мальчики? – спросил нас Гирш, и как ни маскировался, голос его выдал – дрожал слегка.
– Мы с Иваном этим встречались, – сказал я.
– Гандрабурой, – добавил Няма, – который батя.
– Который на востоке, – уточнил я.
– С другой семьёй там живёт, – как бы уже совсем неисправимо дополнил я сведения брата.
– На основе взаимной обиды, – подвёл окончательную черту Няма, и оба мы замолчали.
– Ладно, на сегодня всё, ребятки, – Гирш поднялся с места и после раздумчивой паузы сообщил: – Завтра все уедем в Жижино и пробудем там пару-тройку дней. Там же и узнаете всё, с самого начала. Наверное, время пришло поговорить нам по-взрослому. Выросли вы, смотрю я. И больше, думается мне, оттягивать незачем. Договорились?
– Договорились, – ответил Няма.
– Договорились, – подтвердил это и я.
– Вот и ладно... – снова вернув себе хладнокровный вид, кивнул нам дед, – а теперь идите, ребятки, мне с мыслями собраться надо...
А назавтра, когда мы прибыли в Жижино и уселись на террасе, Гирш принялся рассказывать нам, как стал жить в нашем городе, уже после того, как покинул Ленинград. Мы с Нямой слушали его неотрывно, и тот его длинный рассказ так и не утратил для нас своего поразительного интереса и по сегодняшний день.
«Этим же днём после короткого завтрака мы с Маркеловым уехали к новому месту моей жизни. Он дал мне пять минут на сборы – у него в кармане уже были билеты на поезд, идущий на восток, а внизу нас ждала его служебная машина. Я успел лишь вытащить из-под подушки сдавленную в тяжёлый прямоугольник корону и сунуть её на дно обувной коробки, прикрыв сверху Библией в картинках и руководством по работе с металлами. Ну, и подстаканник папин со всадником-казаком, помните? Кстати, и молоток свой, до кучи, тот самый – жалко отчего-то стало гаду этому оставлять. А мамино кольцо всё ещё было у него. Весь мой капитал как раз поместился в холщовую сумку из пассажа, вместе с коробкой влез туда.
Юлька утром к столу не вышла, так мы с ней и не простились. Я немного удивился ещё, честно говоря, после того что произошло между нами ночью, знала ведь, что уезжаю. Или не знала. Или просто проспала она тогда.
Ну, а как ехали, не стоит рассказа – обычно ехали, больше молчали. Он только сказал, что, как устроюсь уже совсем, так, чтобы было, где жить с семьёй, и когда уже работать пойду на постоянку, чтобы дал ему знать. Вот телефон, а адрес, надеюсь, собственный ты не забыл, сказал. И тогда они к тебе приедут, Юля с дочкой, расписываться и оставаться насовсем. Только надо успеть к началу учебного года, чтобы девочке потом не пришлось нагонять.
Чего он хотел, было понятно, только в мозгах всё равно оставался туман. Какая работа, где им там жить, на какие средства – всё это Маркелов не растолковывал, лишь многозначительно покачивал головой без фуражки и читал газеты. Любил он их читать, заметил я, от корки изучал до корки.
Ну приехали на другой день, слезли.
– Вот, – сказал полковник, – смотри, сержант, здесь я родился, и здесь Юлька твоя родилась, – и устремил взор в сторону города. – Вот они у меня где все! – он сжал руку в кулак и, недобро ухмыльнувшись, потряс им в воздухе.
– Что, враги у вас остались здесь какие-то, Григорий Емельяныч? – поинтересовался я, несколько скиснув после того, как беглым взглядом осмотрел вокзальный ландшафт. – Кому это вы так грозите?
– Ты запомни, Григорий, – он разжал кулак и подхватил свой дорожный саквояж, – если бы в мире не было разных сволочей и негодяев, то никогда бы в жизни я отсюда не вырвался и не попал в Ленинград твой. Да и не жил бы теперь на Фонтанке этой нашей. – И осклабился. – Вот привет им свой передаю, здороваюсь так.
Ну, дальше я спрашивать не стал, подкатило опять волнение, что будет теперь со мной и как.
А было со мной так. В этот же день Маркелов вручил мне мамино кольцо, сказав, что слово он своё держит, в чём я могу теперь лично убедиться. Эту драгоценность, сказал, пустишь на жилищную проблему. Если по уму решишь, должно хватить на начало обустройства. А дальше голову подключай, она у тебя, я знаю, есть.
В тот же день я сфотографировался, и мы с ним отдали бумаги на мой новый паспорт. Снова ксиву свою в нос сунул кому-то, и там обещали выдать всё уже на другой день.
Переночевали в местной гостинице, хоть я и был ещё без паспорта, но на этот раз он уже спал отдельно, взял себе полулюкс, а мне с подселением, знал, что теперь никуда не денусь, связан по рукам и ногам.
Утром сказал, жди, и уехал куда-то. Вернулся после обеда, протянул бумажку и пояснил:
– Всё, сержант, вечером я уеду, а ты завтра к 9.00 явишься на местную упаковочную фабрику, спросишь замдиректора по хозяйству Пыркина и дашь ему эту записку. Он всё сделает, устроит тебя на место. И жду сигнала, не позже конца лета. Всё понял? – Я кивнул. – Ну так и ладно, бывай тогда, у меня поезд через два часа. А гостиницу твою я проплатил до конца недели, так что живи себе не горюй. – И ушёл в свой полулюкс, собираться.
А потом уехал, уже не заходя. И больше я его не видел. Никогда в своей жизни. Совсем. Раз только по телефону поговорили, и один раз отбил телеграмму. Нет, вру, два раза. Про второй раз вы уже в курсе – когда мамы вашей не стало, Дюки моей.
И чего? Он что, на самом деле рассчитывал, что я начну искать, как выгодней пристроить мамино брильянтовое кольцо в этом городе? Всё, что у меня от мамы осталось? Последней памяти лишаться?
Я отправился в хозмаг. Но на этот раз не молоток купил, а зубило. Получилось вполне достаточно, чтобы приступить к разделке короны на отдельные части. А уж камни повываливаются сами.
Первую золотую отрубь я сработал неаккуратно, отхватив неровно и больше нужного по весу объёма для пробной реализации. Рубил, отойдя с километр в сторону от гостиницы, где было побезлюдней. Кусок узорчатый, что отделился после моей рубки, смял в золотой ком, раздолбив его молотком. И блямбу эту червонную сунул себе в карман. Потом лёгкими движениями, стараясь не повредить, стал выковыривать камни. Долго выковыривал, половину, наверное, тогда высвободил из захвата. И тоже в карман ссыпал, так мне было спокойней, чтобы яйца все, как говорится, по разным корзинам разлеглись.
Утром сунул корону под матрас, камни и блямба были с собой, и двинул устраивать жизнь свою через эту градообразующую упаковку.