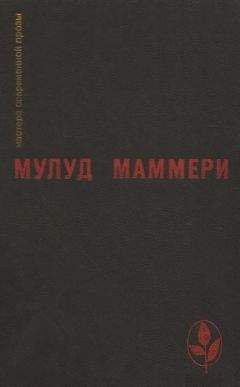— Я знал, что вы человек не только умный, но и… благоразумный.
— Рамдан здесь?
— Мы можем привезти его.
— Я требую очной ставки с ним.
Комиссар заколебался, потом сказал:
— Как вам будет угодно.
Башир взглянул на араба-охранника… быстро… едва заметно. Что же это все-таки? Двойная игра или провокация?
— В таком случае, — сказал комиссар, — он будет здесь завтра утром… Не забывайте об одном, доктор. Я играл с вами в открытую и дальше намерен так поступать. Еще раз даю вам отсрочку — одну ночь. Рамдан будет здесь завтра утром. И только от вас зависит, произойдет или нет ваша встреча с ним. Целую ночь даю я вам для размышлений и воспоминаний. Мой вам совет: постарайтесь, чтобы первые были разумны, а вторые… соответствовали истине. По крайней мере я на это надеюсь… ради вас же. Если же, несмотря на это, вы все-таки будете упорствовать, тогда, доктор… вам известно, как поступил Понтий Пилат? — Он потер руки. — Вот так и я, умываю руки.
Дверь открыл все тот же сапог. Прямой луч электрического фонаря воткнулся в угол камеры. Это принесли суп. Башир не шелохнулся.
— Хочешь мою порцию? — спросил он парнишку.
— Только ты сам сходи за ней, — ответил тот неузнаваемым от страха голосом. Воспользовавшись светом, все поглядели на часы.
— Без десяти одиннадцать, — сказал Пепе, — еще десять минут.
— Десять минут до чего? — спросил Башир.
— Они в одиннадцать начинают. Когда вокруг все спят.
— А тебя не спрашивают, — послышался чей-то бас, — заткнись.
— Да ерунда это, то, что ты говоришь, — произнес другой голос. — Ночью-то лучше слышно. Это они из подлости, гады.
— Да заткнитесь же, черт вас возьми! — сказал бас.
— Эй, слышь, глянь-ка на мои глаза, — сказал Пижон, — я ведь все еще болен? А? Значит, Пепе, только револьвер, понял?
Человек в плаще начал кашлять, сначала тихонько, потом все сильнее, и скоро кашель его заполнил мрак, словно он был шумовым оформлением спектакля, который их уродливые тени разыгрывали на голых стенах.
— У отца астма, — сказал парнишка, сосед Башира.
Башир замерз. Одеял у них не было. Но никто не жаловался. А у него больная печень. Если же печень не в порядке, человек не выносит холода. Ну не станет же он читать им лекцию о том, что, когда болит печень, руки и ноги леденеют больше, чем когда она не болит.
Но именно сейчас, пока он не совсем окоченел, нужно выработать план действий, именно сейчас, потом он уже не сможет. И скоро одиннадцать.
Холод стал невыносимым. Парнишка, скрючившись, вонзился коленками ему в поясницу. Дыхание его было ровным. Все дышали ровно. Почему это в окне нет ни стекол, ни ставен?
Выработать план… немедленно. Но разве есть какое-нибудь другое решение? Нужно все отрицать… до самого конца и что бы ни случилось, в таком положении решительные средства и есть самые эффективные. И потом, очень может быть, что смуглый охранник не подонок.
В таком холоде, мелькнула мысль, до утра ему не продержаться. Вспомнились рассказы о том, что в казарме и в тюрьме можно делать самые безрассудные вещи: пить ледяную воду, когда вспотеешь, постоянно находиться на сквозняке, пить всякую грязь — и все равно ни за что не сдохнешь.
Теперь Башир ворочался не один. Все, как по команде, начали возиться, кашлять, перешептываться в темноте. И парнишка проснулся.
— Который час?
Башир посмотрел.
— Без пяти одиннадцать.
— А!
Окно вываливало на них холод целыми лопатами, возами. Послышались шаги. Тяжелые. Размеренные. Едва они раздались за дверью, как все замерли. И кашель у всех как рукой сняло.
Дверь резко отворилась.
— Мезуед Али.
Голос профессионально четкий, безразличный… и ясный, как на перекличке: надо ведь, чтобы его слышали.
Колени парнишки судорожно притиснулись к спине Башира. Тихий растерянный голос отозвался:
— Здесь!
Фонарь пошарил в потемках своим белым лучом и в одном из углов отыскал хозяина голоса.
— Давай шевелись!
А он едва двигался. Фонарь, вспыхивая, вырубал из плотного мрака то отвисшую челюсть, то глаза, запавшие глубоко в орбиты, то безнадежно поникшие плечи.
Словно слепой, который неуверенными движениями ищет, за что бы уцепиться, он заковылял к двери… уже неживой!
В темноте послышался голос:
— Будь мужчиной!
— Эй, Пепе, — снова позвал Пижон.
— Закрой пасть!
Пижон умолк.
— Может, ты дашь нам поспать?
И хотя Пижон ничего уже не говорил, все продолжали шуметь. Услышав первый крик Мезуеда, они смущенно замолчали. Теперь Баширу стало жарко, только ноги оставались ледяными. Мезуед не все время кричал… И под конец это был уже не крик боли, а нечто похожее на вой животного.
Прошел час, и голос умолк. В темноте опять раздались покашливания. Так продолжалось минут пять. Чего только не выскажешь кашлем! Башир уже легко понимал этот язык. Кашель одного говорил: больше не кричит — значит, умер. Другой в ответ кашлял: не думаю, он, должно быть, просто потерял сознание. Кашель того, кто говорил: «Будь мужчиной!», спокойно констатировал: он ничего не сказал. И опять шаги за дверью. Тяжелые. Размеренные. Кашель-разговор продолжался, его участники как будто хотели показать, что им все равно. Дверь открылась. И стало тихо.
— Лахрэш Муса.
Парнишка вскочил, словно внезапно отпущенная пружина.
— Что? — спросил он, потерянно глядя в сторону Башира. — Что он сказал?
— В чем дело, Лахрэш Муса? — почти завизжал пара.
— Здесь я! — ответил степенный голос.
— Это мой отец, — сказал парнишка.
Муса встал, одернул пиджак, поправил воротник рубашки, подтянул брюки и направился к двери.
— Лахрэш Мохаммед, — произнес пара.
Парнишка вскрикнул:
— Ой!
— Всем семейством работаете, сволочи! — орал пара. — Давай сюда, ублюдок! Сейчас мы тебе покажем, как умеет плясать твой папаша. А ну, давай!..
Крики Мусы послышались вскоре после их ухода, и больше часа его голос разрывал тишину. Парнишка вернулся один, всхлипывая, как маленький.
Прежде чем уйти, пара, который его привел, крикнул:
— Каид! Где он тут?
Башир не шелохнулся. Пара крикнул погромче:
— Или не слыхали? Где тут ваш лекарь Башир Лазрак?
Башир встал. И сразу вспомнил о своих ногах. Они отдохнули, но выдержат недолго. Пара острил:
— Костюмчик-то у тебя для танцев подходящий. Потанцуешь.
На улице небо уже посветлело, занималась заря. Башира запихнули в джип, и машина тут же поехала. «Интересно куда», — думал Башир. Они направились в сторону Шераги, потом на перекрестке в Клервале повернули на Бузареа. И тут Башир понял, что его опять везут в ДСТ…
Комиссар был в бешенстве.
— Ишаки!.. Стадо вьючных ослов, а не люди!.. Да вы присаживайтесь, доктор. Надеюсь, вы сами догадались, что произошло недоразумение… И все из-за этих идиотов! Я же им человеческим языком сказал, чтобы вас оставили здесь, а они вас отправили к пара, вместе с террористами.
Это вступление заставило Башира снова насторожиться.
— А может быть… оно и к лучшему. Вы все обдумали?
— Да, — сказал Башир.
— И что?
— Рамдан здесь?
— Думаю, что его уже привезли, — сказал комиссар.
— Я хочу его видеть.
Комиссар выпрямился на стуле и как-то странно посмотрел на Башира. Башир спокойно выдержал его взгляд. Комиссар медленно встал.
— В таком случае!.. Я сам пойду за ним. Думаю, он уже здесь.
Вид у него был не то усталый, не то безразличный. Безразличие человека, в чем-то уверенного?
Башир повернулся спиной к двери. Сначала он услышит шаги Рамдана за спиной. Как встретится с ним Рамдан? Сознавая свой позор или с нарочитой наглостью во взгляде? И что он скажет?
Скоро, Башир, тебя изобличат во лжи и ты все расскажешь. Таким образом будет доказано, что ты негодяй. Да, доктор Лазрак такой же законченный негодяй, как все. И что тогда?.. До сих пор с тобой обращались как с доктором, окончившим медицинский факультет в Париже. Но вот сейчас, через несколько минут, будет доказано, что ты лжешь, и ты запоешь по-другому. И с тобой сделают то же, что сегодня ночью пара сделали с теми, то же, что с Али Мезуедом, с Мусой Лахрэшем, со всеми, кого не спас ни шелковый галстук, ни костюм из английского сукна, ни университетский диплом.
Сзади послышались шаги, медленные, неуверенные, словно человек шел шатаясь… один шаг… два… три… четыре… все громче, все ближе.
Башир слышал удары своего сердца. Шаги остановились прямо за спинкой его стула. Он уже собирался сказать: «Что ж, вы выиграли!» — и потом начать говорить, рассказать все, чтобы только избавиться от взгляда Рамдана, молящего о прощении, не слышать его надтреснутого голоса, его кашля, не видеть его пламенеющих щек, когда он заговорит, чтобы Рамдану не было перед ним стыдно.