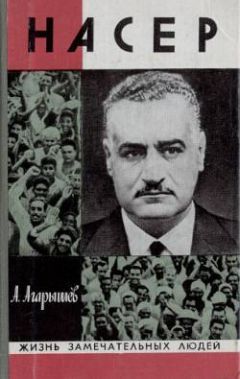– Вика! Любимая моя, прости, не вешай трубку!
– Я не вешаю, – шепотом сказала Вика. – Я слушаю.
– Вика, я тебя очень люблю... Прости меня, пожалуйста! Я решил тебе все объяснить.
Эван сам не понимал, почему он говорит сбивчиво, словно за ним кто-то гонится.
– Вика, ты слышишь меня?
– Слышу, слышу, любимый!
Окрыленный таким обращением, Эван заговорил увереннее:
– Вика, понимаешь, мы, жители Канфей-Шомрона, решили сегодня ночью вернуться к себе в поселение. Мы сейчас идем по горам...
И вдруг в трубку ворвался чей-то чужой крик: «Эван! Арабы!»
А дальше – то, что каждый вечер несется из телевизора, когда папа смотрит очередной боевик, и чего, прежде казалось, никогда не бывает в жизни, как не бывает русалок и ковров-самолетов... Автоматная очередь. И тут же – еще одна.
А вслед за ними – словно удар кувалдой по уху. Застывшая от ужаса Вика поняла, что «пелефон» упал наземь. Потом послышались чьи-то крики, шаги, бормотание... И уже затем – пустота.
Холод каменного пола под босыми ступнями и прохлада «моторолы», зажатой в руке, мгновенно отрубили бредовую и спасительную надежду, что это лишь продолжение сна, а за продолжением, как известно, следует окончание. Несколько секунд Вика в какой-то прострации глядела сквозь картинку с изображением осенних листьев на дисплее мобильного, затем нажала зеленую кнопку. Высветился перечень последних номеров. Еще раз нажала. Высветился последний номер. Тот, с которого звонил Эван. Незнакомый номер.
Гудки прервались. В трубке заговорило чье-то молчание.
– Эван! Эван! – закричала Вика.
«Г-споди, спаси Эвана! Спаси Эвана! Спаси Эвана! Я что угодно сделаю, только ты – спаси Эвана!»
– Простите, – ответил незнакомый бас с арабским акцентом. – Здесь такие не живут. Больше не живут.
* * *
Комната без окна – не комната. Погреб, камера – все что угодно, только не комната. А когда еще у тебя при этом болят яйца, потому что по ним только что били, и пятки, потому что по ним тоже били, и твой харрис-твидовый пиджак весь пропитался кровью, и ты лежишь на каком-то странном деревянном сооружении, то ли на высокой кровати, то ли на низком столе, лежишь, а из кожи на пятках, с которых сорвали дорогие ботинки, сочится кровь, и ты пытаешься спать и не можешь, потому что прямо над тобой свисает с потолка лампочка, которая только казалась тусклой и унылой, когда тебя пинком забросили в эту комнату, а сейчас, когда надо уснуть, она, оказывается, очень и очень яркая и жестокая, и голова твоя мерзнет, потому что струйки воды стекают с нее, и она вся мокрая – ведь ты недавно терял сознание от боли, и тебе на голову вылили целое ведро воды, чтобы привести тебя в чувство, и когда все это происходит с тобой, то...
...то понимаешь, что все это ерунда по сравнению кое с чем пострашнее, – они знают, что ты человек Абдаллы Таамри, и не боятся. Они встали на путь войны. И покровительство всесильного магната, твой главный козырь, уже не козырь, а битая карта. А значит, с тобой могут сделать все что угодно. Но и это не самое страшное. А то, что ты из человека сделал Аллаха. Ты стал куклой, роботом, продолжением руки великого Абдаллы Таамри. Ты сделал его желания своими желаниями, его волю своей волей, его силу своей силой. И вот ты здесь лежишь в комнате без окна, в погребе, в камере или, как твои палачи называют это место – в зиндане, и у тебя болят яйца и болят пятки, и над тобой свисает с потолка лампочка, и ты здесь один, а всесильный сайид Абдалла Таамри при всем своем всесилии не может тебя спасти... или не хочет.
Дверь со скрипом отворилась. Коротышка Аззам, низко поклонившись, провозгласил:
– Саиди Камаль! Аффанди Мазуз ждет тебя!
Он терпеливо ждал, пока Камаль натянет дорогие кожаные ботинки на распухшие ступни. И только когда пленник проходил мимо него к двери, пыточник не удержался и отвесил ему пинка.
* * *
Дверь камеры отворилась, и охранники вбросили в тесное пространство между нарами еще одного арестанта. Он упал на пол с таким звуком, будто на стол, уставленный изделиями из тончайшего и очень хрупкого фарфора, с размаху швырнули мешок с картошкой. Заплеванный пол по обе стороны от вброшенного тотчас же покрылся кровью.
– И этого порезали, – мрачно произнес худощавый эфиоп, сидящий на верхних нарах возле зарешеченного оконца и выпускающий через него на свободу струйки шершавого «эмэмовского» дыма. Арье бросился к окровавленному и узнал в нем Натана Изака.
– Натан! Натан! – начал он тормошить его. – Как я счастлив, что ты жив! Я уже думал, что тебя убили! А где Эван?
Но Натан не отвечал. Он смотрел на Арье пустыми глазами и, как тот ни суетился, взгляд у него оставался совершенно неподвижным. Арье боялся понять, что Натан мертв. Он все тряс его:
– Натан! Натан! Натан!
Но что это? У Натана уже лицо Эвана. Эван! Дружище Эван! Хотя бы ты-то жив?
Однако и Эван...
Проснувшись, Арье продолжал лежать с закрытыми глазами. Камера и зэк-эфиоп, курящий в зарешеченное окошко, явились из трехмесячной давности трехдневной отсидки за участие в перекрытии дорог, чтобы помешать полицейским автобусам вывезти поселенцев из Канфей-Шомрона. А Эван и Натан...
Интересно, сколько он спал? Сначала тщетно пытался дозвониться Эвану и Натану Изаку, а потом задумался, что делать. Позвонить раву Фельдману и признаться, что соучаствовал в обмане, и теперь неизвестно, чем этот обман обернулся, или пока подождать – а вдруг Эван с Натаном еще отыщутся. Задумался. Глубоко задумался. Так глубоко, что только что проснулся.
Посмотреть бы, который час. Но если встать, то нужно звонить, звонить, звонить... А это страшно. С неимоверным усилием он, дрожа от холода, поднялся, завернулся в одеяло и на цыпочках, чтобы не разбудить Орли, вышел из комнаты.
В салоне царила полная тишина. Единственное, что ее прерывало, это посапывание Тото, лежащего на спине и задравшего все четыре лапы. При этом он во сне изогнулся и свесил голову с дивана. Похоже, песик счел эту позу удобной. Арье вспомнил, как неделю назад всю ночь ветер свистел с такой силой, что люди в доме собственных голосов не слышали. А мужественный Тото, не привыкший в более низко расположенном Канфей-Шомроне к подобным концертам, забился под диван.
Не зажигая света, Арье сбросил покрывало, облачился в штаны и куртку и прошел на балкон-веранду, где две недели назад Вика и Орли занимались хоровым щебетанием. Сейчас здесь воздух словно застыл в задумчивости. Гора Кабир красовалась светящимся венцом армейского подразделения, берегущего покой мирных граждан. Внизу вади, очаровавшее некогда Вику, было освещено ярко-зеленым прожектором и казалось владениями какого-то сказочного лесного или болотного царя. Арье вдохнул побольше самарийского воздуха, по вкусу напоминающего воду из студеного горного источника, словно хотел все это ночное небо унести в дом в своих легких, а потом вновь зашел в салон и плотно затворил за собою дверь. Щелкнул выключателем. Невольно зажмурился, но быстро привык к свету и твердо прошествовал к столу, на котором его ждал черный телефон с отломанной антенной. Звонить!
А что это за брошюрка рядом с телефоном? Ах, это воспоминания рава Фельдмана, которые Орли вчера за чаем читала. Интересно, интересно... Нет, он лишь чуть-чуть... по диагонали... А потом сразу – звонить!
* * *
Когда едешь на автобусе по поселению или маленькому городку или по окраине большого города, порой видишь на обочине лежащую собаку. Сбита или спит? Далеко не всегда видно, как она дышит, но очень часто, глядя сквозь замутненное пуленепробиваемое окно, шестым чувством ощущаешь – живая. А иногда наоборот – раньше было живым, а сейчас лежит, словно груда старого никому не нужного расползшегося тряпья. Есть нечто в нашей душе, что дает возможность отличать живое от неживого.
Патруль «Мучеников» ушел, остались лишь два араба ждать джип, который заберет трупы. Синхронно чиркнув зажигалками, они дружно затянулись и вновь устремили взгляд на бесформенные и навеки неподвижные сгустки материи. Смотрели на два тела, приросшие к земле, на кисти рук, словно начавших гладить свежую от недавних дождей самарийскую землю, да так и застывшие. Смотрели на открытые глаза, в которых отражалась сочная южная луна. Долго смотрели, а затем, одновременно выбросив сигареты, не сговариваясь, хором сказали:
– Кисмет!
* * *
«Они приехали все вместе, – прочитал Арье. – Поначалу я в них не увидел ничего необычного. Парни как парни. Здорово, конечно, что у нас в ешиве целых восемь новых студентов прибавится. Тем более я был ошарашен, когда, спросив, в какую группу их записать, в ответ услышал хоровое:
– А мы не в ешиву, мы в колель.
Я еще раз посмотрел на ребят. У женатого вид всегда более ухоженный, чем у ешибохера – и любимая о нем заботится, и сам он все время стремится выглядеть покрасивее да поопрятнее – в других-то слоях общества стараются принарядиться для публики, а у нас для собственной жены. А тут – потрепанные куртки, застиранные футболки и ковбойки, неглаженые полотняные брюки... Нет, эти ребята еще под хупой не стояли. Тогда почему колель?