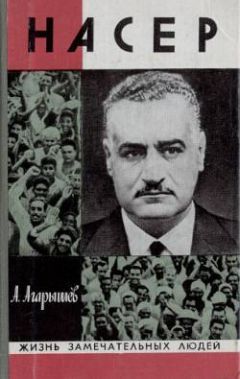А совместная хупа была потрясающей. Восемь балдахинов в алой тени заката расцвели на гребне, где я когда-то под грохот танков читал каддиш вместе со странным двойником моего отца. Восемь юношей разом воскликнули: «Вот ты освящена мне этим кольцом по закону Моше и Израиля!» Восемь раввинов хором произнесли: «Да будет услышан вскоре в городах Иудеи и на улицах Иерусалима глас веселия и глас радости, голос жениха и голос невесты...» Восемь подошв с размаху обрушились на аккуратно обернутые в фольгу стаканы, что символизировало не смолкающую даже в минуту самой большой радости скорбь по разрушенному храму, и сотни голосов запели:
«Если я забуду
Тебя, Иерусалим,
Пусть омертвеет моя правая рука
Пусть навек присохнет
К гортани мой язык,
Если я на миг утрачу память о тебе
И не вознесу,
Тебя, Иерусалим,
Во главу угла любой радости моей...»
А затем началось веселье! Вы знаете, что такое танец молодых поселенцев? Это вихрь! Это полет! Хлещущий гейзер счастья, сметающий все на своем пути! Он увлек и меня, и Натана, и Менахема Штейна, и Ниссима Маймона, и Кальмана Липовецкого, и всех остальных, с кем вместе мы когда-то, продравшись сквозь полицейские и армейские кордоны, в ночи ступили на вновь обретенную родную землю Самарии, с кем мы обживали горстку камней, которую гордо назвали «крыльями Самарии». А вот еще знакомые лица – сыновья тех, кто накануне провозглашения Независимости был расстрелян арабами в Кфар-Эционе. Когда после Войны за независимость район Кфар-Эциона отошел к Иордании, этих детей, вовремя эвакуированных в Иерусалим, матери возили на холм Неве-Даниэль к югу от города и показывали им маячивший вдали Одинокий дуб, растущий напротив пепелища, которое когда-то было их киббуцем. Сдерживая слезы, они говорили: «Смотри, вон там мы жили... вон там ты родился... вон там погиб твой отец...» Через девятнадцать лет после падения Кфар-Эциона, когда грянула Шестидневная война и вся Иудея была освобождена, эти сыновья, уже взрослые люди, бросили свои новые дома, съехались туда, где когда-то жили и сражались их отцы, и воссоздали киббуц. Теперь они явились на свадьбу в Канфей-Шомрон – праздник встречи еврейской молодежи с родной землею. Был там и Давид, отец Натана, когда-то вместе с моим отцом защищавший Кфар-Эцион и тоже чудом спасшийся, друг Натана по Кирьят-Арбе, Элиэзер Лившиц, Элиэзер-Топор, который потом вместе с нами создавал Канфей-Шомрон...
И вдруг в кругу пляшущих я увидел своего отца… а может, того солдата, который тогда молился на этом самом месте… а может, кого-то другого, просто очень на них похожего. Потом я увидел тех сто тридцать, расстрелянных арабами в день, когда пал Кфар-Эцион. И тридцать пять религиозных пальмахников, что погибли, спеша на помощь защитникам Кфар-Эциона. Все, все, все танцевали вместе с нами в эту ночь».
* * *
«Как когда-то я влюбился в эти горы, – читал Арье, – так теперь влюбился в эту молодежь. Шмуэль... Яир... Ронен... Гиль... Ицхак... Мне доставляло неизъяснимое наслаждение разбирать с ними строки Талмуда или сочинений рава Кука, обсуждать какие-то жизненно важные вопросы, вроде того – идти Яиру на большое число часов преподавателем в кдумимскую школу или еще какое-то время пожить поскромнее, зато самому поучиться, в результате чего и вообще знаний Торы поприбавится, и замаячит перспектива сдать на степень. Я мог часами бродить с ними вместе в окрестностях Канфей-Шомрона по склонам, где солнце золотыми пальцами играло на клавишах маков, а редкие сосны, глядя сверху вниз на эту вакханалию, недоуменно покачивали зелеными шевелюрами.
И потом вечерами в нашем доме, уже потерявшем свое бивачное обличье и приобретшем черты нормального человеческого жилья, до поздней ночи мы гоняли чаи с ними и с их меняющими форму подругами.
Меня поражало в этих ребятах то, с какой легкостью, не столько даже они сами, сколько их юные жены, переносят прелести караванной жизни. Зимой под ветром крыша стучит так, будто собирается слететь к чертовой бабушке – однажды так и случилось, после этого мы стали сверху на караваны наваливать камни размером с человечью голову, и теперь под ураганом грохотали уже они. Что же касается протекаемости, то порой из спальни в салон впору шествовать с зонтиком. Зато летом та же крыша раскаляется настолько, что приходится поливать ее из шланга, увенчивая серебристый караван короной серебристого пара.
Чудесные были ребята, но когда на сосне, знаменовавшей превращение отростка шоссе в тропку, ведущую к их караванам, появилась табличка с надписью «Квартал Амихай», я лишь пожал плечами.
А когда спустя положенное число месяцев после коллективной хупы на свет стали появляться юные поселенцы, все они при обрезании были торжественно наречены Амихаями. Я благодарил, улыбался, но мне было очень больно.
* * *
По еврейскому обычаю, мальчика до трех лет не стригут. Когда ему исполняется три года, устраивают торжественный обряд халаке – первая стрижка. Мальчика сажают на стул, распускают его длинные волосы. Раввин, дедушка или другой уважаемый еврей отстригает первую прядь. За ним – отец ребенка и все гости по очереди, оставляя только пейсы. На ребенка надевают кипу и «малый талит» с цицит. Младенчество закончилось; началось детство. С этого момента ребенка учат ответственности за свои поступки.
Церемонию «Халаке» завершает парикмахер, который делает ребенку аккуратную стрижку после того, как его обкорнала родня. Затем все садятся за столы и начинают торжественную трапезу.
Почетное право начать вышеописанную операцию над Амихаем, сыном Яира и Керен, было незаслуженно предоставлено автору этих строк. Я подошел к ребу А.Гиату и, глядя на его черную шевелюру, ощутил себя Моше или Давидом, играющим с ягненком. Мне было ужасно жаль резать эти кудряшки, но что делать – три года – это уже возраст, когда концентрируют внимание не на том, что покрывает черепную коробку, а на том, что находится внутри нее. А лишнее убирают.
Амихай поднял глаза и посмотрел на меня. Я вздрогнул. У него был взгляд Амихая. Нет, не Амихая Гиата, то есть, конечно, Амихая Гиата тоже, но еще и Амихая Фельдмана. Моего сына.
Еще раз повторю – меня не трогают все эти называния в честь. Бен-Гурион не получил бессмертия из-за того, что именем его назвали аэропорт. Семья Ротшильд, увековеченная в названиях «Натания», «Пардес-Хана» и «Зихрон-Яаков», покоится под плитами одноименного парка и не слышит своей звонкой славы. Я понимаю, что имя моего сына, став названием квартала, а затем, рассыпавшись в имена будущих жителей поселения, уже само по себе звучит символически. Но, как говорят арабы, сколько ни повторяй «халва», во рту не станет сладко. Сколько ни кричи «Мой народ жив!», нас как уводили и выдавливали в Изгнании, так уводят и выдавливают здесь, на нашей земле.
И вдруг – этот взгляд. Первая сумасшедшая мысль: «Значит, не увели! Значит, жив!» Пусть у моего Амихая были голубые глаза, как у его дедушки, моего отца, а у Амихая Гиата – жгуче черные; это не имело значения. Сквозь чернильные капли радужных оболочек пробивалась душа моего Амихая – его боль, его стремление заполнить светом беззвездный мир, его готовность отдать жизнь за ближнего.
Вокруг начали недоуменно переглядываться, затем зашушукались. Я увидел себя со стороны – тупо застывшего с ножницами в руках и уставившегося ребенка. А тот глядел прямо мне в глаза.
Я ощутил стыд за те три года, что прожил без веры, с горьким чувством, что мой отец победил в нашем вечном споре.
– Амихай! – прошептал я, обнимая его и состригая черную кудряшку. – Амихай! Ами – хай! Мой народ – жив!»
...Почти машинально, еще не распрощавшись с равом Фельдманом, маленьким Амихаем и веселыми студентами, Арье снял телефонную трубку, даже не удивляясь тому, что ему кто-то звонит среди ночи.
– Алло! Вика? Какая... ах да! Да-да, конечно, я слушаю! Что?!! Эван?! То есть как «убит»?
Похоже, до песика, спавшего на диване, раньше, чем до Арье, дошел смысл случившегося. Он соскочил на пол, поднял черную шерстяную мордочку и жалобно-жалобно заскулил, навсегда прощаясь с хозяином.
* * *
– Итак, вы согласились рассказать, во первых, о том, для чего приехали в нашу Эль-Фандакумие, и, во-вторых, что вам известно о замыслах уважаемого аффанди Таамри. Что он от меня хочет? Как собирается меня использовать? Зачем сообщил евреям о нашей предполагаемой засаде на плато Иблиса?
Неожиданно для него самого в душе вдруг что-то треснуло, и последние слова он произнес почти просительным тоном, заглянув в глаза Камалю прямо-таки дружески. Но у Камаля на лице и мускул не дрогнул. Преодолев страх, нахлынувший на него тогда, в зиндане, он решил держаться до конца и, если надо, умереть за того, кому служил всю жизнь – иначе получалось, что жизнь эту он прожил неправильно, а признать это было страшнее смерти, страшнее всего. Поэтому ответил Камаль с привычной монотонностью: