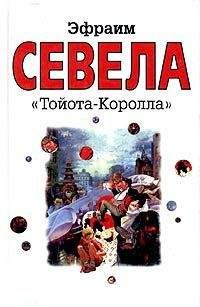Когда я, обессилев от любви, засыпал в ее объятиях, она, сидя в подушках, покачивала меня, как младенца в колыбели, и, склонившись над моим лицом, тихо напевала литовскую колыбельную песенку — «Лопшине».
Ее до слез трогали рубцы на моей искалеченной лопатке. Она могла без конца нежно водить по ним кончиками пальцев, касаться губами и что-то ласково нашептывать, словно заговаривая боль. А когда я ей сказал, что один осколок хирургам не удалось извлечь из моего тела и он торчит в сердечной мышце, изредка напоминая о себе острым покалыванием, она разрыдалась, и мне стоило немалого труда ее успокоить, заверив, что опасности для моей жизни нет никакой.
Ее забота обо мне возросла до смешного. Она не давали мне делать резких движений, наклоняться, чтоб что-нибудь поднять с полу.
— Тебе нельзя! — становились испуганными ее глаза. — У тебя железо в сердце!
— У меня железное сердце, — отшучивался я. — Пожалуй, единственный железный большевик во всей коммунистической партии.
Это смешило ее. И она припадала к моей груди, преданно заглядывала в глаза и нашептывала по-литовски непонятные мне, но, несомненно, ласковые слова.
В канун моего отъезда в командировку Алдона впервые вышла из дому. Пока было светло, мы гуляли с ней в дубовой роще, уже посыпанной сухим, не тающим снегом. А когда стемнело, она предложила спуститься с Зеленой Горы в центр. Мне эта идея не улыбалась. С одной стороны, ничего разумного не было в том, чтоб дразнить гусей, открыто демонстрировать властям мои отношения с литовкой. Да и ей ни к чему было бросать вызов городу, пройдя со мной, оккупантом, под руку по главной улице на глазах у гуляющей публики и вызвав у всех вовсе не одобрительную реакцию. Ни мне, ни ей эта прогулка была ни к чему, и я попытался втолковать ей это.
— Значит, нам суждено всегда прятаться? — округлила она свои серые глаза. — Будто мы что-то украли?
Я не нашел ничего вразумительного в ответ. И уступил.
Мы съехали в вагоне фуникулера с Зеленой Горы, и уже в вагоне я натыкался на колючие взгляды пассажиров-литовцев. А на проспекте, покрытом свежим снежком и потому имевшем вид нарядный и праздничный, было многолюдно в этот вечер, и мы прошли буквально сквозь строй осуждающих и гневных переглядываний и злой несдержанной ругани за спиной.
Я себя чувствовал нелепо и гнусно и ковылял деревянной походкой, втянув голову в плечи и устремив глаза поверх голов. Зато Алдона, казалось, нисколько не была шокирована. Она смело глядела всем встречным в лицо, заставляя их в смущении отводить глаза, а сама улыбалась открыто и приветливо. Чего это ей стоило, я понял лишь дома, где она прорыдала до поздней ночи, но на улице она проявила завидную выдержку.
В вагоне фуникулера, ползком тащившемся на Зеленую Гору, Алдона прижалась ко мне влажной щекой и, моргая ресницами с тающими на них снежинками, прошептала:
— Против нас весь мир. Знаешь, кто мы? Ты — Ромео, а я — Джульетта!
И, помедлив, добавила:
— С одним отличием. Мы не умрем. И будем жить… назло всем.
За окнами вагона косо уходили вниз огни города. Пассажиров было мало. Люди не решались поздно задерживаться на улицах и предпочитали отсиживаться за запертыми дверьми. На скамье напротив нас сидел, покачиваясь, пьяный офицер в шинели нараспашку, в сбитой на затылок шапке. Полагая, что все, кто не в военной форме, литовцы, он и меня принял за такового и, нетвердо ступая, перешел на нашу сторону вагона, явно желая со мной поговорить.
— По-русски понимаешь? — был первый вопрос, небрежно и высокомерно обращенный ко мне, и я вдруг с пронзительной остротой почувствовал, каково быть под оккупацией, под властью чужих, презирающих тебя людей. Я на момент почувствовал себя в шкуре литовца, и многое в поведении этих людей прояснилось для меня, стало понятней.
Я встал ему навстречу, отгородив Аддону.
— В чем дело? — сухо спросил я.
— О, так ты свой? — радостно всплеснул руками офицер, курносый и потный, деревенского типа малый.
Теряя равновесие, он ухватился за отвороты моего пальто, чтоб не рухнуть. Жест этот был не агрессивным, а, наоборот, дружелюбным, и, вцепившись в меня, он пьяно бодал головой мою грудь, норовя устоять на ногах. Но так расценил это я. Другое дело — Алдона.
Вначале я даже не понял, что произошло. С головы офицера слетела шапка, после чего его голова резко мотнулась сначала в одну, потом в противоположную сторону. И лишь тогда я увидел разъяренное, с круглыми стеклянными глазами лицо Алдоны за спиной офицера. Она нанесла ему несколько ударов наотмашь, резко, по-мужски. И он рухнул спиной на пол вагона, потом сел, краснорожий и маленько очумевший, и стал шарить у себя на боку, явно пытаясь вытащить из кобуры пистолет. Но тут уж кинулся к нему я и вырвал пистолет из руки.
Несколько литовцев сжались в испуге на своих скамьях в другом конце вагона, который, к счастью, с легким стуком остановился и с шипением распахнул пневматические двери.
— Беги! — крикнул я Алдоне. На миг я замешкался, решая, что делать с пистолетом. За потерю оружия бедолага может лишиться офицерских погон. Я выбил обойму с патронами из рукоятки, сунул обойму в карман, а пистолет швырнул офицеру, стоявшему на четвереньках и норовившему встать.
Алдона не убежала. Она вышла вместе со мной, и мы быстро, все ускоряя шаг, устремились по темной, без единого фонаря улице в сторону нашего дома.
— Сечь тебя надо, да некому, — наконец выдохнул я. — Зачем ты полезла?
— Я думала, он хочет тебя ударить.
— Ну и что? Он ничего не хотел. Просто пьяная шваль. Но если б и хотел ударить, я что, сам за себя не смогу постоять? Мне нужна помощь… сопливой девчонки? Он же мог тебя пристрелить!
— Я думала, он хочет тебя ударить, — упрямо повторила она.
— Ты бы посмотрела на себя со стороны. Разъяренная тигрица. У тебя были глаза… слепые от бешенства.
— Я ничего не видела, — согласилась она. — Я думала, он хочет тебя ударить.
И вдруг заплакала, горько, совсем по-детски. Припав к моему плечу и шмыгая носом. Я не стал ее утешать и успокаивать. Пусть поплачет. Плачем она смывала с души горечь, которой наглоталась вдосталь на проспекте, бросив отчаянный вызов своему городу, своим соплеменникам. Горючими слезами она давала выход своей тоске по матери и сестре, с которыми порвала из-за меня. На ее еще не окрепшие плечи в считанные дни легла нагрузка, способная свалить кого угодно. А ведь ей еще не было семнадцати.
Утром за мной заехал на своем «Опеле» Коля Глушенков. Я оставил Алдоне ключи и деньги и велел как можно реже отлучаться из дому и никого до моего возвращения в дом не пускать. Оставил ей телефон, куда нужно позвонить, если почует опасность. Она была печальна и слушала невнимательно. Лишь кивала. Даже старого циника Глушенкова тронули ее грустные глаза.
— Ох, и девка! — посасывая трубку, сказал он, выруливая на дорогу. — Втюрилась в тебя насмерть. Это уж такая порода. Редкая в наше время. Берегись, парень. Легко не отделаешься.
Оглянувшись, я увидел прижавшееся к оконному стеклу лицо Алдоны, и у меня засосало под ложечкой от ее отрешенного вида и от слов Коли Глушенкова.
Утром по ее виду я понял, что она не сомкнула ночью глаз.
— Не уезжай, — шепнула она. — У меня предчувствие.
— Глупенькая. Сиди дома и жди меня. И не будет предчувствий.
— Не обо мне, — покачала она головой. — Чтоб с тобой ничего не случилось. В плохое место едешь.
— Ты-то откуда знаешь?
— Знаю. Если с тобой что-нибудь… запомни… я жить не стану…
— Что ты хочешь этим сказать?
— Береги себя… Если мной дорожишь.
Я рассмеялся и поцеловал ее в припухшие, податливые губы.
К цели нашей поездки мы добирались долго и с приключениями. На дорогах были снежные заносы, и хлипкий, еле живой автомобиль моего фоторепортера отчаянно буксовал, садился на пузо, и мне каждый раз приходилось вылезать и мокрыми мерзнущими руками подталкивать сзади эту рухлядь, обдающую плевками грязного снега из-под колес.
В деревне, куда мы ехали, разыгрывался очередной пропагандистский фарс. Там долго стояла пустой усадьба бежавшего на Запад литовского то ли графа, то ли князя. И ее понемногу разворовывали окрестные крестьяне. Кому-то из местного начальства пришла мысль сделать в усадьбе лучший в Литве сельский клуб, благо там имелся зрительный зал и даже сцена. Начальство повыше смекнуло, чем это пахнет, отпустило деньги и строительные материалы, прислало художников-декораторов из Вильнюса, и сейчас предстояло торжественное открытие уже не клуба (аппетит приходит во время еды), а Дворца культуры, что должно было продемонстрировать невиданный расцвет литовской национальной культуры под благотворными лучами сталинской конституции, которую принесли в Литву мы, русские, на своих штыках, не очень заботясь, какую радость доставит это местному населению. А оно, местное население, радости особой не проявляло и даже огрызалось, стреляя в оккупантов. За этим следовали репрессии. Безжалостные. И в маленькой Литве обильно лилась кровь. Так обильно, что менее чем трехмиллионный народ стоял перед явной перспективой быть полностью истребленным.