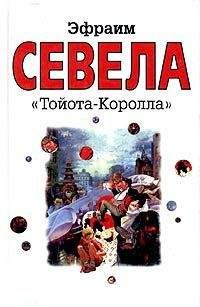Дворец культуры действительно отгрохали на славу. С купеческим размахом. Потому как деньги не свои, а государственные, и чем больше их растратишь, тем выше оценка служебного рвения местных сошек у большого начальства в центре.
В глазах рябило от многоцветья литовских национальных костюмов и вырядившихся в них литовских сероглазых и белозубых девок, взметавших в пляске юбки чуть не выше своих светловолосых голов. Пищали, тренькали, звенели, подвывали до тошноты допотопные народные инструменты — канклес, скудучяй и еще какие-то диковинные деревяшки со струнами, названия которых я и не упомнил.
Многолюдные хоры, выстроенные по-солдатски во множество шеренг, во всю силу своих деревенских легких славили на литовском языке советскую власть и лично великого Сталина, чьи огромные портреты висели не только на сцене и в вестибюле, но и на фронтоне здания, заслоняя окна обоих этажей.
Взопрели, снимая, фоторепортеры и кинооператоры. Зал дружно и гулко аплодировал каждому номеру — публика была отборная, прошедшая строгую проверку по части лояльности и в основном состояла из местных начальников, их родни и домочадцев.
Я уже записал в блокнот все, что полагалось записать. Глушенков отщелкал две пленки и тоже складывал в сумку оптику. Теперь предстоял банкет, не посидеть на котором было бы сочтено дурным тоном, и мы собирались, если не потеряем над собой контроля, в меру напиться и нажраться, а поутру, опохмелившись, тронуться в обратный путь.
Пожар вспыхнул после антракта. Загорелось сразу в нескольких местах. На сцене большие языки пламени заплясали по портрету Сталина, во весь рост, в мундире генералиссимуса, и гирлянды из еловых лап, обрамлявшие портрет, весело затрещали, рассыпаясь множеством искр.
Горело и в зале и в вестибюле, и все вокруг быстро заволокло сизыми клубами удушающего дыма. Погас свет. Началась паника. Крики, плач, топот ног и грохот опрокидываемых скамей. Меня затолкали, и я упал под ноги взбесившейся, как стадо очумелых животных, толпы. Меня бы затоптали, не появись вовремя Коля Глушенков, который оттащил меня в сторонку, а затем на своих плечах уволок из пылающего зала. И все же я задохнулся от дыма и потерял сознание, пока неистребимый, железный Коля волок меня наружу, на свежий воздух.
Отравление оказалось настолько серьезным, что я почти неделю провалялся в местной больнице, все палаты которой были очищены властями от больных, чтоб разместить пострадавших при пожаре. Коля, которого ничто не брало, не уехал в Каунас и провел всю неделю при мне. Как заботливая нянька.
Поджог, как. потом стало известно, был совершен «зелеными братьями», исхитрившимися нашпиговать своими людьми и хоры, и танцевальные ансамбли, и поэтому все меры предосторожности, предпринятые властями, и тучи милиционеров и в здании и вокруг него не смогли ничего предотвратить.
Были жертвы. Об их числе не сообщалось. И были ответные репрессии. Это я уже видел своими глазами, когда, оклемавшись в больнице, на Колином «Опеле» выбирался домой из этих мест. Мы миновали много хуторов по дороге, и ни один из них не был обитаем. В отместку за диверсию власти тут же, без всякого разбирательства, начали выселять в Сибирь всех, кто под руку попадался. Подряд. Хутор за хутором. Дав два часа на сборы. И растерянные крестьяне с остекленевшими от страха глазами грузили в военные машины свой жалкий скарб, который было позволено взять с собой, а поверх узлов усаживали хнычущих детей и трясущихся, бормочущих молитвы стариков.
Мы ехали мимо пустых крестьянских усадеб. С распахнутыми настежь дверьми и окнами, хлопавшими, как выстрелы, на ветру. На крышах изгибали спины осиротевшие кошки, во дворах скулили некормленые, дичающие псы. Из своих темных гнезд, похожих на распластанные меховые шапки, недоуменно водили красными клювами тонконогие белые аисты — по народному поверью почитаемые охранителями дома от зла, но на сей раз не сумевшие никого уберечь.
Нам довелось обогнать колонну грузовиков, в открытых кузовах которых тряслись на своих узлах крестьянские семьи, и в каждом кузове на заднем борту сидели с автоматами на коленях солдаты в белых овчинных полушубках — зимней форме войск НКВД.
Этих людей везли до железнодорожной станции. Там грузили в товарные вагоны, запирали и под усиленным конвоем белых полушубков угоняли под грохот колес, заглушавший плач и стоны, на восток, через всю Россию, в снежную, морозную Сибирь.
— Дорого уплатили, суки, за поджог, — шептал Глушенков, объезжая по обочине грузовики. — Скоро их в Сибири станет больше, чем в Литве. Допляшутся! Как думаете, Олег, надолго их хватит?
Я не отвечал. Мне было муторно. То ли еще сказывались последствия угарного отравления, то ли от вида этих людей, безо всякой вины, а просто по изуверскому закону коллективной ответственности лишенных свободы, своего угла и гонимых на чужбину, откуда редко кому удавалось выбраться назад.
Перед моими глазами стояла Алдона. Я не очень верю в предчувствия, но могу поклясться, что в тот раз я явно чуял, что на нас с ней надвигается беда.
Стоило мне вернуться в Каунас, тут же на меня обрушилась новость, потянувшая за собой цепь других событий, из-за которых меня, стремясь спасти мою репутацию, срочно отозвали в Москву, и я покинул этот город навсегда.
Новость эту, как бы между прочим, сообщил мне, хитро поглядывая из-под густых бровей, Малинин. Мы сидели в его кабинете. Он велел секретарю никого не пускать и даже запер обитую дермантином дверь.
Я по наивности подумал, что он со мной уединяется потому, что соскучился и не хочет, чтоб нам помешали, пока мы не наговоримся всласть. Малинин с самого моего приезда в Каунас избрал меня для задушевных бесед и был со мной откровенней, чем с другими. Я ему явно нравился, и отношения наши складывались как у сына с отцом. Вернее, даже теплей и прямее, чем у меня с родным отцом, занимавшим в Москве пост повыше, чем у Малинина. Вне всякого сомнения, Малинин опекал меня не без указания свыше.
— Тут перед твоим приездом малость постреляли на Зеленой Горе. Прямо у твоего дома. Дом твой не пустовал?
— Нет. Там оставалась моя…
— Знаю. Алдона? Так ее звать… если не ошибаюсь?
— Так. А что?
— Да ничего. Она ни при чем. Возле твоего дома наш патруль пристрелил отпетого бандита. Мы за ним долго охотились. А он обнаглел, надоело в лесах таиться. Стал появляться в Каунасе… чуть не в открытую. Раз выскочил из наших рук. Правда, подстреленный. И укрылся на Зеленой Горе. Мы там все переворошили — как иголка в стоге сена. Потом вылез и напоролся на засаду. Когда осмотрели труп — на нем свежая повязка на прежней ране. И в кармане — запас пенициллина. Дефицитное лекарство. Сам знаешь. Отпускали только своим. Где мог достать? У тебя дома не было пенициллина?
— Кажется, был…
— Вот, проверь на всякий случай. Не улетучился ли? Кто его знает, лекарство новое, дефицитное… возможно, имеет свойство испаряться.
Потом разговор перешел на другое, мы еще с час болтали, сидя на диване, и уже я стоял в дверях и прощался, когда Малинин вынул из нагрудного кармана фотографию и протянул мне.
— Случайно не припомнишь это лицо?
На тусклой фотографии была лишь голова с закрытыми глазами. Вне всякого сомнения, голова мертвого человека, совсем еще молодого. Со спутанными светлыми волосами, вьющимися, в крупных кольцах. С упрямым широким подбородком. И коротким, чуть приплюснутым носом, какой бывает у боксеров.
— Покойник? — спросил я.
— Тот самый… что пристрелили у твоего дома. Малинин не повторил вопрос, знакомо ли мне это лицо, а я не нашелся, что ответить.
На том мы расстались. Весь путь домой, на Зеленую Гору, я лихорадочно размышлял, соединяя обрывки, всплывавшие в памяти, в одну и, как казалось мне, стройную картину.
Убитый был мне знаком. Я с ним дважды сталкивался. Я даже помнил его имя — Витас. Жених Алдоны, с которым она порвала, встретив меня. Он учился в консерватории у отца Алдоны, а когда профессора расстреляли, ушел к «зеленым братьям» и там, под кличкой «Кудрявая смерть», прославился своей жестокостью и неуловимостью. Малинин говорил правду: за ним давно велась охота и до последнего времени без всякого результата.
То, что «Кудрявая смерть» и Витас, жених Алдоны, — одно лицо, я долго не знал. Как не знало и начальство во главе с Малининым. В противном случае Алдона бы давно загремела в Сибирь, и мое заступничество не спасло бы ее.
Я не знаю, что побудило «Кудрявую смерть» выйти из леса и объявиться в Каунасе. Моему мужскому самолюбию, несомненно, льстила догадка, что кроме диверсионных целей у него имелся и личный повод — ревность к покинувшей его Аддоне.
Я увидел его настолько неожиданно, что даже ничего не успел предпринять, и он исчез так же, как возник, в толпе, запрудившей в этот солнечный воскресный день аллею Свободы.