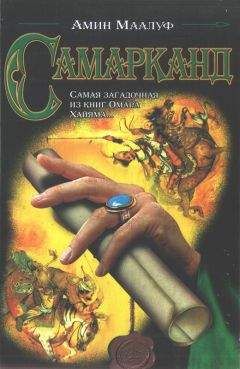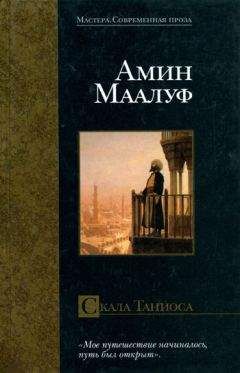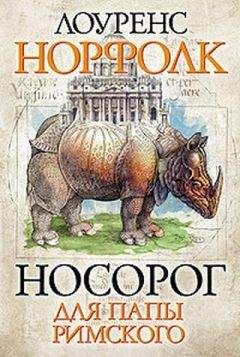Однако, невзирая на схожесть постулатов, для меня было немыслимо следовать за ходом своих мыслей. Между Лютером и Львом X разгорелась нешуточная дуэль, но я не мог с одобрением относиться к незнакомцу в ущерб тому, кто взял меня под свое покровительство и обращался со мной словно мой родитель.
Я, конечно, был не единственным, кого Папа называл «своим сыном», но со мной у него это выходило как-то по-особенному. Он одарил меня своими собственными именами — Иоанн и Лев, а также фамилией своего знатного рода — Медичи. Это произошло в торжественной обстановке 6 января 1520 года, в пятницу, в новой, еще не достроенной базилике Святого Петра. В тот день там камню упасть было негде, столько собралось кардиналов, епископов, послов, а также поэтов, художников, скульпторов. Глазам было больно от блеска парчи, драгоценных камней и жемчуга. Сам Рафаэль из Урбино, божественный Рафаэль, как называли его поклонники, присутствовал на церемонии, ничуть не похожий на хворого, хотя жить ему оставалось три месяца.
Папа ликовал, восседая на престоле в своей тиаре.
— В этот день Богоявления, когда мы празднуем крещение Христа, полученное им из рук Иоанна-Крестителя, а также по традиции поклонение волхвов, явившихся из Аравии, Нашему Господу, может ли быть для нас большее счастье, чем принять в лоно нашей Святой Церкви еще одного волхва, прибывшего к нам из Берберии со своим подношением в Дом Петра!
Стоя пред алтарем на коленях, одетый в длинную мантию из шерсти белого цвета, я был совершенно одурманен запахом ладана и подавлен столькими незаслуженными почестями. Ни один из присутствующих не заблуждался относительно того, каким образом этот «волхв» попал в Рим. Все, что говорилось в мой адрес, как и вообще все, что со мной происходило, было лишено смысла, гротескно, раздуто до невероятных размеров! Не стал ли я жертвой дурного сна, какой-то фантасмагории? Не находился ли я на самом деле, как всякую пятницу, в мечете — в Фесе, Каире или Томбукту, — под влиянием долгой бессонницы, принятой за нечто совершенно иное? И вдруг, когда мои сомнения достигли наивысшей точки, вновь послышался голос понтифика, обращавшегося ко мне:
— Ты, Наш возлюбленный сын, ты, Иоанн-Лев, на кого указало Нам Провидение, выбрав из множества других смертных…
Иоанн-Лев! Йоханнес Лео! Никто никогда в моем роду так не прозывался! Долго еще после окончания церемонии я на разные лады произносил и про себя, и вслух буквы и слоги своего нового имени, то по-латыни, то на итальянский манер. Лео. Леоне. Любопытная людская привычка называть себе подобных именами тех зверей, которых они боятся, и лишь изредка тех, которые им преданно служат. Люди охотно принимают имя волка, но не собаки. Удастся ли мне когда-нибудь забыть, что я Хасан, и, глядя в зеркало, обращаться к самому себе: «Э, Лев, да у тебя круги под глазами?» Чтобы как-то свыкнуться с новым именем, я поспешил переиначить его на арабский манер: Йоханнес Лео превратилось в Йуханна ал-Асад. Так я подписал те свои труды, что были созданы в Риме и Болонье. Однако приближенные понтифика, слегка удивленные запоздалым появлением на свет еще одного Медичи — темноволосого и курчавого, — тут же окрестили меня Африканцем, дабы отличать меня от моего приемного отца. А возможно, и для того, чтобы избежать назначения меня кардиналом, как произошло с большинством двоюродных братьев Папы, причем некоторые были возведены в сан в возрасте четырнадцати лет.
Вечером того дня, когда я крестился, Папа призвал меня к себе. Для начала он объявил мне, что отныне я свободен, но могу продолжать жить в замке, пока не подыщу другое жилье, и добавил, что желал бы продолжения как моих занятий, так и даваемых мной уроков с прежним прилежанием.
Затем взял со стола крошечную книгу и положил ее на мою раскрытую ладонь так, словно это облатка. Открыв ее, я обнаружил, что она на арабском языке.
— Читайте вслух, сын мой!
Я исполнил его пожелание, с величайшей осторожностью переворачивая страницы:
— Часослов… отпечатан 12 сентября 1514 года… в городе Фано под покровительством Его Святейшества Папы Льва…
Мой благодетель прервал меня и дрожащим, неуверенным голосом произнес:
— Это первая книга на арабском языке, когда-либо отпечатанная в типографии. Когда вернетесь к своим, не расставайтесь с ней.
В его взоре я прочел: он знал, что однажды это случится, и был так взволнован, что и я не смог сдержать слез. Он встал. Я склонился и припал к его руке. Он обнял меня и прижал к себе, как сделал бы настоящий отец. Клянусь Богом, с этой минуты я полюбил его, несмотря на все, что мне пришлось испытать по его воле. То, что такой могущественный и почитаемый всем христианским миром человек мог так разволноваться при виде крошечной книжечки на арабском языке, выпущенной в какой-нибудь заштатной типографии, показалось мне достойным халифов эпохи их расцвета, какого-нибудь ал-Маамуна, сына Харуна ал-Рашида, да осыпет Господь своими милостями как одного, так и другого!
Когда на следующий день после этой встречи с Папой я впервые вышел за пределы своей тюрьмы и свободный, ничем не обремененный пошел по мосту Святого Ангела по направлению к кварталу Понте, во мне не было ни горечи, ни злости. Пробыв несколько недель закованным в кандалы, несколько месяцев проведя в плену щадящего режима, я снова стал путешественником, существом, передвигающимся в пространстве, как было во всех странах, где я побывал и где вкусил почестей и удовольствий. Множество улиц, обилие памятников, уйма мужчин и женщин! И все это мне хотелось постичь, ведь за год, проведенный в Риме, я не видел ничего, кроме самого замка и длинного коридора, связывающего его с Ватиканом!
* * *
Большой ошибкой с моей стороны было согласиться отправиться на первую прогулку по Риму с непревзойденным Гансом. Сперва я шел прямо, по направлению к улице Старых Банков, затем взял влево и попал на знаменитую улицу Пеллегрино, где задержался у витрин ювелирных лавок и продавцов шелка. Я бы часами стоял там, если б не мой немец, которому не терпелось идти дальше. Он даже дернул меня за рукав, как делает проголодавшийся ребенок. Я сделал над собой усилие, извинившись за свое легкомыслие. Вокруг нас было столько церквей, дворцов, памятников! Может, он хотел повести меня на площадь Навона, до которой было рукой подать, и показать бродячих комедиантов?
Но у Ганса на уме было совершенно иное. Он повлек меня по узким улочкам, где невозможно было шагу ступить, чтобы не вляпаться в нечистоты, и остановился в самом тесном и зловонном месте. Нас окружали оборванные, грязные, похожие на скелеты люди. Какая-то женщина высунулась из окна и предложила нам подняться в обмен на несколько quattrini. Мне стало не по себе, но Ганс словно прирос к мостовой. Поскольку из моих глаз посыпались искры, он счел необходимым дать следующее пояснение:
— Я хотел, чтобы у тебя перед глазами неотступно стояло это зрелище нищеты, когда ты попадешь в покои князей Церкви, всех этих кардиналов, у которых по три дворца на брата, где они в роскоши предаются разврату, соперничая меж собой, задавая пиры с двенадцатью переменами рыбных блюд, бессчетными закусками и десертами. А сам Папа! Ты видел, как он гордо выставил на обозрение слона, подаренного королем Португалии? А как он бросает своим шутам пригоршни золотых монет? А как он охотится на медведя или кабана в своем поместье в Мальяне, в высоких кожаных сапогах, со сворой из шестидесяти восьми собак? А какие у него соколы и ястребы, доставленные за золото из Кандии и Армении?
Я понимал обуревавшие его чувства, но все же он зашел слишком далеко.
— Покажи мне лучше памятники античного Рима, о которых пишут Цицерон и Тит Ливий!
Мой юный друг выглядел победителем. Ничего не отвечая, он вновь двинулся в путь, да так уверенно и проворно, что я едва поспевал за ним. Через полчаса мы оставили далеко позади себя последние жилые дома и очутились на пустыре.
— Здесь был римский форум, сердце античного города, вокруг располагались оживленные кварталы — ныне это место называется Коровьим Полем! А перед нами — вон там — Палатинский холм, восточнее, за Колизеем, холм Эсквилин. Прошли века, как они опустели. Рим превратился в большую деревню на месте величественного града. Знаешь, каково сейчас его население? Восемь, от силы девять тысяч очагов.
— Гораздо меньше, чем в Фесе, Тунисе или Тлемсене, — согласился я.
Вернувшись в замок, я заметил, что солнце стоит еще высоко, и подал своему провожатому идею прогуляться по красивейшему кварталу Борго. Стоило нам оказаться вблизи базилики, как Ганс вновь разразился филиппикой:
— А известно ли тебе, на какие средства Папа собирается закончить возведение этого храма? На немецкие денежки.
Вокруг нас стали собираться прохожие.
— На сегодня хватит! — взмолился я. — Остальное — в другой раз.