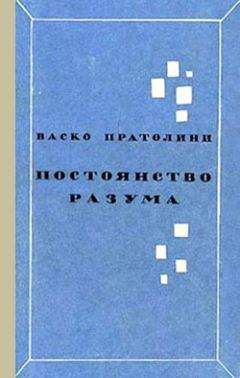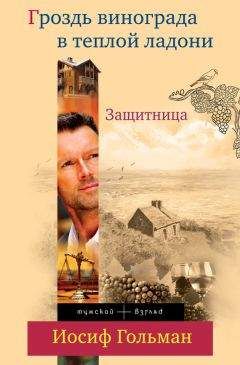– Я хотел…
Все четверо, молча, мы окружали Лори. С неровным дыханием больной, чьи лицо и руки в полумраке казались темно-голубыми, сливались рыдания Джудитты и кощунственное в этой обстановке бормотание мачехи, пережевывавшей свои молитвы. Но это о звуках. Образы, нагромождавшиеся в моем сознании, подсказывали мне такие мысли, о которые разбивалась любая возможная истина. Мне казалось, что не накануне вечером, когда я бросился на Дино, не тогда, когда я избавил Иванну от ее мании, не в результате моих столкновений с Милло или раздумий об отъезде Бенито, а только сейчас понял я, что такое жизнь. Мои мечты и восторги, мои идеалы, мои тревоги, колебания и противоречия – все это было преходящим и укрепилось во мне благодаря любви. Теперь же, когда сама любовь оказалась не в силах отринуть прошлое, которое, не принадлежа нашему чувству, убивало его, теперь, когда земное преобладало над неземным – а в своей основе любовь наша была неземной, – всякое иное состояние, кроме оцепенения, было бы просто невозможно… Я начинал сознавать, что сам виноват во всем – ведь это я ничего не хотел знать. Я снова видел выражение ее лица, печать скорби на нем, крупные, как набухшие почки, слезы и ее взгляд, полный отчаяния, в тот вечер, когда за дверью «берлоги» стояли Джермана и Бенито. И потом – ложь, продиктованная любовью и подсказанная мной, потому что истина, в которую нельзя не поверить, внушала мне бессознательный страх. «Да, он погиб в автомобильной катастрофе». И ее постоянное беспокойство, перемены в настроении, которые она не скрывала от меня, как бы протягивая мне руку в надежде, что я помогу ей освободиться от гнетущей тайны, – и так до нашего последнего счастливого дня; но что это было за счастье, что за радость, если теперь от них ничего не осталось? На мосту через Чинкуале, в то время как парнишка сидел на корточках под сетью, где блестела рыба, ее голос рядом со мной должен был прозвучать для меня воплем. «Я ведь тебе не все сказала в тот вечер, когда приходил Бенито». Идя вдоль реки, мы еще могли победить сообща эту живучую манию преследования. Да и неделю назад, когда ее судьба была уже решена, когда она сказала: «Твоя доброта обезоруживает меня», а я, не придумав ничего лучшего, воспользовался ее состоянием… Собственная слабость и моя трусость убивали Лори точно так же, как подлая болезнь, завладевшая ее телом и изуродовавшая его. Этот наглый, уверенный в своей безнаказанности тип, что стоял сейчас бок о бок со мной, растирая руку, этот тип был причиной нашего несчастья.
Заблуждаются тогда, когда хотят заблуждаться, говорил я себе. И чувствовал, что сам изменил себе, что все предали меня. Даже она! Она первая – со своими недомолвками, которые жгли ее изо дня в день, а она не смогла покончить с ними, ибо не нашла в себе сил заставить меня узнать больше того, что я знал. Выходит, мы действительно играли в придумывание жизни, когда утверждали, что у нас нет прошлого, а есть настоящее – наша любовь, чье будущее зависит от нас самих? После того, как я только что был свидетелем порыва умирающей Лори, после того как Луиджи – то ли из коварства, то ли движимый смутными угрызениями совести – счел необходимым истолковать мне ее поступок, мне было нетрудно догадаться, что эта бочка лицемерия, этот кусок вонючего сала, этот гнусный пошляк снова принялся шантажировать ее, не успела она вернуться во Флоренцию и встретиться со мной. И она не устояла перед ним – жертва собственной нерешительности, смутно завороженная мифом о невинности, которую она принесла ему в жертву. Как же так? Разве я не обладал достаточной физической силой для того, чтобы проучить Луиджи и пресечь его посягательства? И разве вместе мы не положили бы конец ее зависимости от него? Она запуталась, чтобы спасти нашу любовь, разрываясь между мной и им, и в бреду, в агонии отождествляла нас. Но по-прежнему мне и только мне принадлежала ее запятнанная душа, как и ее прекрасное, теперь обезображенное синюхой тело, которое в предсмертном порыве потянулось к Луиджи. И отношения наши подобны многим и многим человеческим отношениям, бесконечно повторяющимся и несущим в себе зло, осаждающее мир, в котором мы мечтали жить свободными, прекрасными, чистыми. Она любила нас обоих, меня и его, величайшая чистота уживалась в ее душе с глубокой порочностью, зло было в ней, и потому я, как это ни ужасно, находил глубоко справедливым то, что она умирала, лишившись самого дорогого из того, что имела: красоты и прелести своего тела. Преследуемый памятью о ней, я буду жить, виновный в собственном недомыслии, навсегда лишенный способности обольщаться, готовый отныне и всегда распознавать зло под всеми его личинами и давать ему решительный отпор. И воздавать за него полной мерой. Буду жить, созревший для того, чтобы снова покорно поверить в простые истины: в повседневный труд, в идеи, пусть еще не общепризнанные, лишь бы они были осознанными и поддерживали нас и мы продолжали бы за них бороться, и, наконец, в чувства, не терпящие никаких компромиссов и защищаемые – в случае необходимости – общими усилиями.
…Неожиданно наступила полная тишина. Джудитта перестала рыдать, стихли причитания мачехи, мы больше не думали каждый о своем – две женщины, сидевшие по ту сторону кровати, я и Луиджи, стоявшие бок о бок напротив них. Мы поняли, что Лори не дышит.
Оскорбленные в своих чувствах, мы взрослеем. Теперь, когда Лори тоже стала воспоминанием, подобно маленькой Электре и Бенито, вправе ли я считать, что рядом с ней повзрослел? От нашей любви, которой я отдал себя без оглядки, как чему-то самому чистому и самому надежному, и которая в последние минуты оказалась неверной и зыбкой, я унаследовал насущную потребность в ясности, стремление не просто к честности – честным я был от природы, – а к честности предельной. И я начал с того, что стал, как болван, выведывать у матери ее убогие тайны. Но, вступая в мир, мы делаем первые шаги по двору своего дома; если двор запущен, куда бы мы ни ступили потом, мы будем оставлять за собой грязные следы. Я повзрослел, чтобы постареть душой, вот и все. Теперь речь идет о том, как мне жить среди людей – примириться с условностями, от которых теперь и я не свободен, или повести с ними самую решительную борьбу. Кажется, я понимаю, что можно жить и приносить при этом пользу, служа примером для других. И даже, вероятно, превратиться со временем в своего рода Милло, только более просвещенного и потому последовательного во всем, верного и в личной жизни той диалектике, что питает наш внутренний мир. До всего этого я дошел сам, своим умом, а если подумать, то и благодаря Лори, тем нескольким дням, что так быстро промелькнули после нашей поездки к морю. Рисуя ее в своем воображении рядом с собой, я хотел проверить ее способность помочь моей «собачьей душе».
На крик Джудитты поспешили старик Каммеи и монахиня; четверо или пятеро, сколько их было, отвратительные в своем желании выглядеть сердобольными, они навалились на нее, делая что-то с ее лицом и окликая ее по имени. Прислонившись к стене между столом и окном, я издали наблюдал за ними, забывшими обо мне. Лори больше не было там, эта мысль, эта твердая уверенность позволила мне трезво и спокойно смотреть на случившееся, и я не страдал, прощаясь с ней. Это лицо на белых подушках, эти руки, соединенные на груди, не вызывали во мне глубокой скорби. Разве что соприкосновение со смертью оскорбляло меня. Все они опустились на колени. Луиджи стоял на одном колене, свесив брюхо до самого пола и вцепившись рукой в край кровати, как цеплялся несколько минут назад за меня, другой рукой он закрывал лицо, наблюдая за мной сквозь неплотно сомкнутые пальцы. Появились врач, сестра и священник, в маленькой комнатке вокруг мертвого тела царила суета, к которой я был не причастен. Воспользовавшись этим, я направился к выходу, незаметно, бочком, держась вплотную к стене.
С тех пор я не видел никого из ее родственников, за исключением отца. Он здоровается со мной, когда мы встречаемся, а встречаемся мы довольно часто, и я начинаю подозревать, что это происходит не случайно. Он предлагает мне выпить и иногда разрешает угостить его. Я помогаю ему заполнять карточки тотализатора, спрашиваю, по-прежнему ли хороши Торнезе и Чудо, на которых он ставил, когда я работал у него в типографии. Он увлекается, погружается в подробности – родословные, время, призы, каждый раз он порывается сказать мне что-то чего я не хочу слышать и всячески стараюсь ему показать это. Лишь однажды, потянувшись рукой к карману, он спросил: «У тебя есть ее фотография?» Я резко остановил его: «Нет, и она мне ни к чему. Я не нуждаюсь в портрете для того, чтобы помнить». Он согласился со мной, вздохнул. Я никогда не справляюсь у него о жене, о Джудитте и о Луиджи, и он знает, что никогда не должен произносить имя Лори.
То же самое с Милло. Он уважает мое молчание, и я благодарен ему за это.
Но было время, с конца апреля до начала лета, когда я неожиданно срывался – у станка, за чтением или на мотоцикле. Незримый ветер опустошал мой мозг, в превращенном в пустыню сознании возникал, постепенно его заполняя, образ Лори. Я видел ее лицо – и передо мной вехами нашей истории вставали то павильончик в Альтопашо, то «Красная лилия» или «Petit bois», то роща над Чинкуале, вспоминал я и вечер в лесу, там, где крепость и река, вечер, предвозвестивший конец нашей любви; и час ее зарождения: «О, извините, ради бога!» Лори то терлась носом о мой нос, то, больная, повелевала с каменным лицом: «Не смотри на меня!», то, бесконечно счастливая, показывала мне самолеты и стремглав бежала вниз по винтовой лестнице башни, на запущенный газон: «Ты пустишь меня за руль?» Или бежала на фоне морской дали, оглядываясь, спотыкаясь на мокром песке, или лежала под деревом или на диване в «берлоге»… Но все это не было приглашением поговорить на чистоту, скорее, она ждала, что я насильно заставлю ее высказаться. Она доводила меня до исступления, и я, будучи не в состоянии противопоставить ей ничего, кроме нервного напряжения, переживал ужасные минуты. Как в истории, рассказанной мне Мириам, так и в жизни людей, которых, помимо Лори, я когда-нибудь любил, начиная с Электры и кончая Дино, Бенито, Иванной, границу между правдой и ложью определяло что угодно, только не разум, и я бился об эту стену и никак не мог одолеть ее.