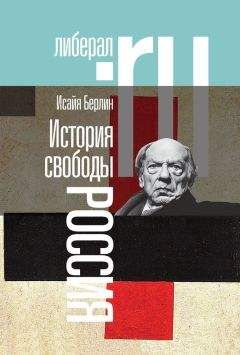Когда поняла все это пророчица Пелагея об Андрее Копосове, не о чем ей стало более с ним молчать, и тотчас появились Савелий, мать его Клавдия, молодящаяся старуха с накрашенными губами, и старик Иловайский, знаток античности. Старик Иловайский был неприятен тем, что при встрече нечистыми старческими губами своими, неухоженным запущенным лицом одинокого неряхи лез целоваться в губы, и проблема состояла в том, чтобы уклониться от поцелуя в губы, подставить щеку или вообще заставить Иловайского как бы невзначай, неловко повернув голову, поцеловать воздух, но при этом не обидеть старика. Пророчица Пелагея совершила это легко и умно, однако Андрей попался и ощутил на губах своих мертвую старческую плоть. К тому же мать Савелия, Клавдия, которая Иловайскому во всем теперь подражала, тоже поцеловала, ткнула напомаженным ртом. Савелий суетился:
– Скоро электричка, – и побежал за билетами.
– Иволгин сынок у меня, истинный Иволгин, – сказала Клавдия, – вижу, как он суетится, вспоминаю отца его покойного, паникера. – И она по обыкновению всплакнула.
Погода испортилась внезапно. Летом в Москве это случается чаще, чем зимой. Вдруг среди безоблачного почти неба громыхнуло раз, другой, когда садились в электричку, уже было ветрено, прохладно, а минут через десять езды окна залило дождем. Разговоры меж собой в электричке вели главным образом люди подмосковные, городские же, уставшие от Москвы, крайне назойливой, когда она постоянно перед глазами, старались глядеть в окна поезда на дачную местность. Исключение составлял Иловайский, который говорил, рассказывал и не давал покоя.
– Вы, молодежь, – говорил Иловайский, – не слышали, конечно, и не читали писания священника Петрова… Христианствующий философ, – Иловайский хихикнул, – любовь как основа жизни общества… Отвергал частную собственность и экономическое неравенство, доказывал, что частная собственность иудейское, а не христианское творение… Семинаристы под его влиянием решили идти в народ с новым Евангелием… Упущено, упущено из истории революции религиозное народничество… Но Петров был отлучен… Да, глупость его была встречена репрессиями, как обычно в России…
– Тише, Гавриил, – сказала Клавдия Иловайскому.
– А что я такое говорю? – вызывающе удивился Иловайский. – Я, наоборот, антиправительственные глупости высмеиваю.
– Не произноси слова «антиправительственный», – шепотом сказала Клавдия.
– Ох и еврейская же у тебя стала душа от первого твоего брака с Кацем, – сказал Иловайский.
Меж Иловайским и Клавдией началось неожиданное препирательство, свидетельствующее о близости их отношений.
– Я сейчас вернусь, – шепотом сказала Клавдия на первой же остановке. – Это бестактно, при Савелии… И при Руфине…
– А что, – говорил Иловайский, – Руфина знает, что я не антисемит и уважаю ее отца, ведь верно?
– Верно, – согласилась пророчица Пелагея.
Но Савелий действительно побледнел, и неизвестно, что бы произошло, если бы не приехали. Приезду и смене обстановки обрадовались все, в том числе и импульсивный старик Иловайский, понявший, что хватил через край. Он знал за собой подобный грешок, однако не мог отказать себе в удовольствии позлословить, если был убежден, что его за это обругают, но не ударят, как Вася Коробков.
Мокрое дачное Подмосковье встретило городской народ угрозой, какая исходила от чужих заборов, собачьего лая, отсутствия поблизости милицейских перекрестков и нескольких опасных фигур у пивного ларька. Однако когда нашли дачу хирурга Всесвятского, друга Иловайского, и вошли во двор, отбиваяь от грязных лап большой ласковой собаки, сразу веселей стало. Когда же увидели на террасе стол с тарелкой яблок, сорванных с черенками и кое-где с листьями, из местного дачного сада, и тарелку свежей малины, также оттуда, вся подмосковная прелесть разом заслонила первое неприятное впечатление.
За столом, кроме хозяина хирурга Всесвятского, розовощекого, следящего за собой старика, сидела жена его Варвара Давыдовна и еще один старый сверстник, тоже знающий Иловайского и сказавший при знакомстве:
– Белогрудов… Фамилия былинная, но скорей в женском, девичьем роде, – что сразу определило в говорящем шутника. Указал Белогрудов и профессию свою – преподаватель литературы.
Иловайский принялся тут же целовать всех троих, вначале хирурга, потом жену его, потом преподавателя, потом опять хирурга. Домработница внесла самовар, а Варвара Давыдовна пыльную бутылку вишневки. «Сейчас заговорят о Христе», – с тревогой подумал Андрей. Но пока не выпили вишневки, не заговорили, а когда выпили, заговорили сладостно, как обычно вспоминают старики о далеком, молодом, мечтая о прошедшем, как о несбывшемся.
– Помните, – говорят они, – помните? – И глаза их сладостно жмурятся, словно видят приятные сердцу сны, после которых просыпаются с сожалением.
– Помните, гомилетика, – сладостно жмурясь, говорил Белогрудов, преподаватель литературы, – гомилетика – теория церковного ораторского искусства…
– Литургика – церковный устав, – подхватил сладостно Иловайский.
– В церкви устав есть? – удивленно, как гусыня, глядела Клавдия. – Гаврюша, неужели есть устав? – Она тоже выпила наливки и кокетничала.
От злой и потому производившей умное впечатление, внутренне собранной, церемонной, хорошо обеспеченной жены искусствоведа Иволгина, некогда железной рукой изгнавшей вон детей репрессированной сестры, не осталось и следа. Клавдия ныне злилась и нервничала, как это делают легковесные глупые женщины, быстро все прощала, удовлетворялась самым малым. Савелию, сыну своему, она была давно уж не опасна, давно уж не строгая мать, пресекавшая его юношеский грех, и он относился к ней требовательно, как воспитатель, соперничая за ее слабую душу с Иловайским, однако не затем, чтоб эту душу беречь, а затем, чтоб через нее доказать свое мужчине-конкуренту.
– Церковный устав, – наставительно сказал Иловайский, – изучение порядка совершения всякой церковной службы.
– А евангельские тексты, на которые дома писали проповедь, – вел свое Белогрудов, – изучение Иоанна Златоуста, помнишь, Гаврюша? Помнишь, Сенечка? – обернулся он к хирургу.
– Как же, – сказал хирург Всесвятский, – практику проходили по приходским церквам. Но более всего любил я богословие и медицину… Это в старших классах изучали…
– А как же католики доказывают, – сказал уже сильно захмелевший Иловайский. – М-да… Католическая мысль – это Европа со всеми своими слабостями… Но братья и сестры, в понятии Троицы… – Он попытался встать, однако Клавдия, обняв его за плечи, усадила. – В понятии Троицы… У нас Святой Дух исходит только от Отца, у Европы также и от Сына… Католическая мысль свободна… Мы же порабощены еврейством, Моисеевым. Смешно, мы, русские – и Моисеево…
«Сейчас начнется», – с тревогой подумал Андрей. Если б не Руфина, сидевшая рядом с ним, то он бы сильно затосковал, но его любовь к Руфине созрела быстро, а красивую тридцатилетнюю женщину юноша, которому не многим за двадцать, любит послушно, покорно, без мужского насилия в чувстве и стараясь ей подражать в манерах. Руфина же сидела спокойно и смотрела на пьяных стариков-семинаристов.
– Кант отождествлял религию с нравственностью, – словно с кафедры или амвона торжественно говорил Белогрудов. – Для Гегеля религия – это начальная стадия философии, которая возникла у дикого человека как потребность в мысли и знании, религия – самообольщение человека, преклоняющегося перед самим собой… Богоподобие духа человеческого… – Вдруг он перескочил в изложении и заявил: – В семинарии запрещались Тургенев, Гончаров, Толстой, Белинский, Добролюбов, Писарев, Чернышевский, Гончаров… Впрочем, Гончарова я назвал два раза…
– Вот чаша, – сказал Иловайский, облапив ревматическими пальцами красивую, с золотым ободком сервизную чашку с чаем, – она проста…
– Мама, – сказал Савелий, – отними у Иловайского чашку, иначе он разобьет чужую вещь…
– У вас, молодой человек, эдипов комплекс, – повернул лохматую голову русского интеллигента-хулигана Иловайский.
– Если бы не ваша немощь, я бы ударил вас, – блеснув слезами юношеского негодования, сказал Савелий, но, увидев испуганное, страдающее лицо матери, удовлетворился этим и успокоился.
– Полноте, – растерянно, наперебой заговорили хозяева Всесвятские, – выпили и как дети.
– Ничего, я уже спокоен, – сказал Савелий, – я погуляю в саду.
– Сад у нас хороший, давайте я провожу вас, – сказала Варвара Давыдовна, и они ушли.
– Вот оно, Моисеево, – сказал Иловайский, когда Савелий ушел, – заносчивое…
– Именно, – добавил Белогрудов, – помните, революция… В семинарии митинг… Входит в класс ветхо-заветник, а мы ему: Библия – это догмат… Почему, спрашивается, мы, русские, должны изучать историю еврейского народа, отчего-то Богом избранного, изучать всю подробность этой истории. Историю евреев изучать основательнее, чем историю нашей родины. Я об этом случае русского патриотизма в семинарии в 1952 году в антирелигиозный журнал написал, но не пропустили…