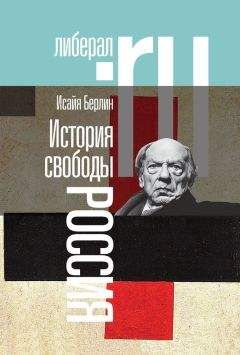Высунулся всклокоченный Иловайский опять с лукавым, злопыхательским безбожным лицом.
– Молодежь, у них свои дела… Ревность… Ревнует к Савелию…
– Его собака напугала, – сказала Варвара Давыдовна, – она не кусается, молодой человек.
– Где тут дорога на станцию? – сказал Андрей, страдая от внезапности происшедшей с ним перемены, ибо только что он был уверен в себе перед этими людьми и уверенными словами защитил близкое ему, так взросел был и вот, крикнув от глупой неожиданности, выдал свои душевные мучения, которые в глазах этих стариков выглядят по-детски, отчего и слова его, сказанные в споре, глубоко продуманные, стали теперь детскими…
– Да вы подождите, – показалась и Клавдия, – может, все вместе скоро поедем… Или с Савелием поедете… Савелий! – позвала она. – Да где же он? Наверное, с Руфиной гуляет.
– Нет, я пойду, – торопливо сказал Андрей, чувствуя на себе насмешливый, безбожный взгляд Иловайского, – мне пора…
Он вышел из калитки и пошел наугад по мокрой траве, когда же оглянулся, то даже если б хотел вернуться, не знал бы куда. Все дачные дома проступали в темноте одинаково. Отойдя как можно дальше, он уселся на большой камень, который нередко торчит из земли или валяется неизвестно для чего при дороге в загородной местности, и задумался почему-то не о любви своей к Руфине, которая была сильна, хоть длилась не более трех часов, и которая уже успела причинить ему такое страдание и такой глупый публичный стыд. А задумался он о начальном пребывании своем в Москве, когда все, что теперь было напряженным, выглядело празднично и приятно.
Попав в столицу, он обнаружил у многих им в ту пору уважаемых людей национально-религиозное русское чувство, и именно это национально-религиозное чувство было первой ступенькой приобщения его к духовному. Можно по-разному относиться к происходящему ныне, однако следует признать, что обновление молодежи началось с ширпотребовских распятий, которые делались из того же материала, что и кошечки-копилки с дыркой для монет в голове. Он тоже очень мечтал достать себе такое распятие, как когда-то мечтал достать себе финский нож, который видел у сильных мира сего. Поскольку и раньше все достойное подражания было русским и русским все венчалось и награждалось, эти русские распятия помогли отрешиться от прошлого и многое изменить, ничего по сути не меняя. Он начал читать Евангелие, которое на время одолжил ему Вася Коробков, и в Евангелии тоже все было русским, отрицающим все нерусское, а самым предельно нерусским было, конечно, еврейское, Моисеево… Моисеево было злым, Христово – добрым… Множество интеллигентных дам, некоторые даже из евреек, приобщившихся к обновленно-русскому, еще более усилили влюбленность в русского Христа… Этот радостный свадебный, медовый для Андрея месяц приобщения к русскому христианству был разрушен не духовными сомнениями, для которых он был тогда еще слишком неразвит, а на первый взгляд явлениями мелкими, бытовыми – дурным характером столичных христиан. И не только дурным, но и узнаваемым, привычным, потребительским, более отвечающим национальным эмоциям, чем стремлениям проникнуть внутрь евангельских изречений. Когда же начали молодые люди переписку от руки евангельских текстов и передачу их друг другу, точно прокламаций, он окончательно понял, что религия не спасет Россию в будущем, как не спас ее атеизм в прошлом. Нет от самого себя спасения, и перед самим собой человек беззащитен. Национальный характер – вот его истинный поработитель. Не дано человеку себя изменить, но дано ему понять себя и иных предостеречь словом. Что будет – то знает Бог, но как не должно быть, может знать и человек. Не должно быть излишнего упования на религию, как было излишнее упование на атеизм, ибо христианская религия ныне не может уповать сама на себя. Христианство, начавшее свой исторический путь с заговора апостолов против Христа, понимает, конечно, что главное, чего ждет человек от религии, это успокоения, за которое он согласен платить покорностью. Ждет того же, что ждет ребенок от матери. Успокоишь – буду покорен, не успокоишь – не буду покорен. И успокаивает она любовью к страданиям и наградой в загробной жизни. Однако если заменить любовь к страданию любовью к подвигу, что в принципе одно и то же, если заменить награду в загробной жизни наградой от славы нации, вполне это будет пригодно для земного вызова Богу – строительства национальных вавилонских башен. Апостольское христианство гордится своей любовью к человеку, в действительности же в основе всей его морали лежит преувеличенный смысл и значение человека в Божьем мире, и здесь они сродни атеистам. Нет, не тому учат библейские пророки, не тем успокаивают. Библейской правдой успокаивают они, Божьей правдой. Правда же состоит в том, что человек – существо проклятое с момента изгнания из рая-Эдема. Понять правду о себе доступно каждому, однако не каждый согласится ее понять. Мало кто согласится. А ведь правда о себе не только облегчит, но и укрепит жизнь. Каждая удачная минута, всякое счастье, любое доброе дело будет восприниматься тогда как незаслуженная, а оттого вдвое дорогая награда, всякая же беда и неудача будет приниматься как заслуженное, а оттого менее обидное наказание. Не ждать наград, которые всегда должны быть неожиданны и восприниматься как незаслуженные, и не страшиться наказаний, которые всегда должны восприниматься как естественные, – вот подлинная судьба религиозного деятеля.
Есть знаменитое место во Второй Книге Моисеевой «Исход». В страхе перед преследующим их фараоном сыны Израилевы вместо борьбы-деяния обратились к Богу с молитвой, а к Моисею с проклятиями за то, что он поднял их к борьбе-деянию, оторвав от молитвы. И великий пророк, тоже дрогнув сердцем, обратился к молящемуся народу с обещанием милости Божьей за молитву их: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он сделал вам ныне. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Тогда Господь преподал Моисею урок. «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? Скажи сынам Израилевым, чтоб они шли». Недостаточно Божьего замысла, иначе не сбудется, не свершится.
И вспомнилось Андрею Копосову, вспомнилось ему, как некоторое время тому посетил он подмосковный Загорский монастырь, Троице-Сергиеву лавру, и как вернулся оттуда с тяжелым сердцем. Он всегда боялся кладбища, здесь же было как бы кладбище, могилы которого разрыты для обозрения. Все выглядело этими старыми, разрытыми могилами, приносящими доход от посещений туристов, – монастырские стены, колокольни, трапезная в стиле аляповатого «русского барокко». Трапезная эта напоминала нарумяненный, окаменевший калач, извлечен-ный из захоронения, пищу мертвых, страшную для живого рта. И все это было покрыто надписями, как на могилах, церковными – вязью и государственными – строгими буквами. Единое целое со всем этим составляли толпы старух примерно одного возраста, где-то вокруг шестидесяти, примерно одного роста, одного черного или серого цвета. Изредка среди них мелькало лицо мужчины либо лицо молодое, реже мальчика, чаще – девочки. Но и они были похожи на лица старушек, и почему-то подумалось, что лица всех покойников старушечьи, независимо от пола и возраста. Посторонние посетители поглядывали на них с любопытством и опаской, как смотрит живой на покойника. Только монахи, кто в полном черном облачении со знаками отличия, цепями и крестами, кто в сером, приталенном облачении без всяких знаков, шли по двору в разных направлениях со здоровыми, живыми, полнокровными лицами и обращались с богомольцами спокойно. Что-то было в монахах от могильщиков, привыкших обращаться с мертвыми телами как с бытовыми предметами повседневного своего труда. Хоть было лето, но день холодный, ветреный, а богомольцы по-вокзальному расположились под открытым небом на длинном ряде садовых скамеек. Кто спал, улегшись на скамейку, кто закусывал бедной пищей: хлебом, вареной колбасой, запивал водой из поллитровых баночек. Здесь же были и монастырские кошки, видно, кормящиеся от подаяний богомольцев, и тучи голубей, прямо садящихся на спящих и разгуливающих по спящим.
В одной из древних церквей, у именитого, представляющего достояние государства иконостаса, шла служба. Священник в очках, с седой гривой волос сидел в изголовье того, что изображало Гроб Господень – мертвенно поблескивающий серебряный Одр Божий, и мужской речитатив его подхватывался женским: «Аллилуйя!» Вереницей шли богомольцы и приклады-вались губами к серебряному Одру. Все это происходило в полутьме и тесноте. В другой поло-вине, такой же тесной, как бы в комнате ожидания, стояли скамьи, и плотно, по-вокзальному, сидели богомольцы с узлами и корзинами. И несмотря на «аллилуйя», чувствовалось русское присутственное место, азиатчина русских учреждений, русское равенство, однообразие и коллективизм. Русский лесостепной характер испокон веков складывается в коллективе и по сей день на том застыл. Оттого так слаб в нем индивидуализм, оттого характер этот атеистичен, коллективен, и русская церковь даже видом своим подтверждает это. Когда же русский человек пытается изнасиловать себя, прячась в скитах, в отшельничестве, соблазны возникают в нем с особой силой, те соблазны, от которых можно спрятаться лишь в коллективе. Лев Толстой, личность с достаточно здоровым восприятием жизни, отобразил это в полной мере в «Отце Сергии». Истинно по-толстовски выразилась одна девочка лет восьми, которую привела с собой посмотреть на церковную службу мать-туристка.