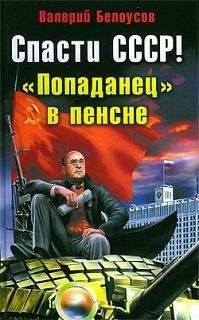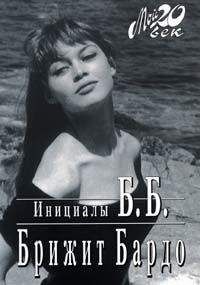Однажды, в конце лета девяносто четвертого, стоя в чертовом подвале дома № 27 по Аргос-роуд у открытого окна спальни, я услышала знакомый призыв спустить ключ, произнесенный слишком знакомым голосом. Я вытянула шею и увидела незнакомые, по виду дорогие, коричневые кожаные ботинки по щиколотку, незнакомые чисто выстиранные хлопчатые брюки и — большой палец засунут в карман, четыре остальных барабанят по плоскому бедру — кисть, по саду которой я путешествовала взад и вперед, как какой-нибудь плюшевый мишка. А за ней руку, по которой я делала пальцами шажок, затем другой, затем щекотала ее владелицу, пока та не закатывалась смехом.
Ключ был спущен, она его взяла. Ее волосы были коротко, по-мужски, подстрижены. Это ей не шло. Но руки у нее были загорелые, с крепкими мышцами, с чистыми белыми высоко закатанными рукавами — и это ей очень шло. «Здоровая и красивая, здоровая и красивая…» — забормотали Жиры, которые толклись рядом со мной. «Но ненадолго», — рявкнула я. Наверху Наташа повернулась и небрежно обвела взглядом улицу, затем ее новые одежки исчезли в прежней жизни.
Рождество 2001
Я маленькое пухленькое существо. Просто поросеночек. Ледяная Принцесса — надо отдать ей должное — кормила меня из стерильных баночек разнообразными пюре — с повышенным содержанием витаминов, со сбалансированными протеинами, без клейковины. Думаю, эта забота о моем рационе каким-то образом должна была компенсировать ее собственное все более беспорядочное питание. Риэлтера это смешило, и как только мы все трое выходили гулять, а она исчезала за одной из тяжелых, похожих на каменные плиты дверей, на которых были высечены иероглифы, изображающие социально неблагополучных людей: старик, инвалид в кресле на колесиках, мать с маленькими детьми, — он покупал мне пакетик чипсов. Чипсы остренькие, как зубочистки, истончившиеся в сдобренном специями масле Бюргерленда, Макдоналдса или «Кентакки-фрайд-чикен». Очень неприятные для моих крошечных мягких десен, почти как зубоврачебные инструменты — ведь я снова оказалась слаба по части зубов. Или наоборот, жирные, разбухшие, почти распадающиеся чипсы, белые, как Уробурос,[40] прячущийся в промасленной серой бумаге и ищущий мой розовый ротик.
Чипсы, чипсы, еще раз чипсы. Чипсы, которые покупали и которыми хрупали в торговой зоне, на углах улиц или в засранных скверах за покосившейся оградой. Чипсы, сдобренные аскорбиновой кислотой или кровавым соусом «Хайнц». Чипсы, которые нравились мне только тем, что были теплыми. Мои драгоценные чипсы, которые постоянно выпрашивали ребятишки в курточках с капюшоном — «Чипсов дашь?» — серебристые носы-пуговки приклепаны к бронзовым мордашкам. В мрачных сумерках города они казались воплощением бедности, впавшей в детство. Чипсы всегда действовали на меня как слабительное. Тогда Риэлтер или Ледяная Принцесса клали меня на скамейку, или на сложенную клеенку, или прямо на холодную землю, чтобы, справившись с завязками и штанами, вытащить комочек памперсов из-под моих покрасневших ягодиц. Затем влажные салфетки проникали в мои складочки, затем жирно намазывался крем. Всю жизнь я мучилась с нижним бельем — скоро этому придет конец.
Но когда? Прошло два дня, и все, что я съела, это рождественский кекс, а все, что я сумела добыть для питья, это несколько пригоршней воды из бачка унитаза в ванной. Несколько раз я проползала вдоль перил, стараясь не смотреть на Ледяную Принцессу, и добиралась до двери в ванную. Там я с трудом сумела взобраться, зачерпнуть и попить, затем села и пописала, затем спустила воду. Такая смерть — детские игрушки.
Можно подумать, я завидую Ледяной Принцессе и ее супругу — этой несчастной паре, она тут, наверху, он там, внизу. Но и у них были свои счастливые мгновения — они болтали и смеялись в микротакси, когда мы крутились по городу, чтобы что-нибудь выиграть, украсть или выпросить, а шоферы-африканцы вели машину по старому городу, сверяясь со своими внутренними картами Лагоса, Дар-эс-Салама или Аддис-Абебы. Болтали и смеялись, когда шоферы с силой ударяли по тормозам, а из динамиков на полке заднего сиденья слышались гитарные аккорды; болтали и смеялись, когда воображали высокого, тонкого, неизменно элегантного масаи, покуривающего сигареты с фильтром и глядящего на изборожденные каньонами плоскогорья Страны Мальборо.
Все же у меня есть все основания ревновать к нему — он не имеет ничего общего со мной. А она — что ж, я знаю ее так близко, как один человек только может знать другого. Знаю ее изнутри и снаружи, клаустро — и агора-. Как породившая и порожденная. Я медленно иду мимо могилы Ледяной Принцессы, извергнутой из быстро движущегося ледника жизни в терминальную морену пухового одеяла и подушки. Я проходила мимо — теперь надо идти вперед. В последнюю ночь было холодно — сегодня будет еще холоднее. В этот мертвый промежуток между годами сюда никто не придет. Несмотря на приглушенный шум и крики соседей сверху, которые уже второй раз принимаются завывать под свое рождественское приобретение — караоке. Ведь они так же недосягаемы для меня, как если бы эта квартирка была потерявшей связь орбитальной станцией с вышедшими из строя компьютерами и системой жизнеобеспечения, от которой осталось одно название.
«Дейзи, Дейзи, хоть словечко пророни, я совсем рехнулся от своей любви…» Она пела мне эту песенку — и я пела ей ее же. И теперь, когда я ползу по ковру, изо всех сил стараюсь забраться на кровать, ухватываю кусок ее одеяла, заворачиваюсь в него, я лепечу слова песенки на собственный лад: «Де-зи, Де-зи, ловеко лони ялих нуся во — ей йюбви…» Стыдно так плакать и изводить добытую в туалете воду. Но я могла бы затопить слезами эту комнату, слезы хлынули бы вниз по лестнице, сорвали с петель и разнесли входную дверь. Могла бы затопить слезами весь Коборн-Хаус, так что его обитателям пришлось бы собраться на игровой площадке и устроить состязание в беге, чтобы высохнуть. Победили все, и каждый получит награды. Караоке для помаргивающих малышей, караоке для глядящих с вожделением взрослых. Тогда они все смогут спеть что-нибудь очень-очень простое. Никогда бы не поверила, что поп-музыка так популярна.
С того места, где я лежу, мне видно очень мало, а Ледяная Принцесса кажется просто еще одним предметом дешевой обстановки, окружающей меня. Здесь полно таких жалких вещей. Жалюзи разрезают оранжевый свет уличных фонарей на полосы, пересекающие комнату. На окнах образуется узкая рамочка льда. Мне хочется помечтать о тихих сумеречных комнатах с косыми лучами и трогательно скучной атмосферой. Но вместо этого я вспоминаю прогулку, на которую эти двое взяли меня в холодном начале этого года.
Естественно, они были под кайфом — естественно. Обдолбанные вдрызг. Шли по Собачьему острову, за Селествилл к Виктори-гарденс. Затем по пешеходному тоннелю к Гринвичу, а дальше по задымленным улицам к Куполу Тысячелетия. Всю дорогу они по очереди толкали перед собой мою коляску. То один, то другой толкал ее со всей силы, затем бежал, чтобы поймать коляску за ручку. Они хохотали как ненормальные, воображая, что это быстрое, неровное, почти не контролируемое ими движение должно забавлять меня. «Ла-ла-ла, Да-ли-ла!» — распевал он. Ей показалось забавным включить имя своей боявшейся жизни матери в имя своей робкой дочери. Почему мы идем сюда? Да потому что они под кайфом. Потому что они думают, что Купол окажется сенсацией, приключением для таких шалопаев, таких же свихнувшихся хиппарей, как они сами. Ну да, а Риэлтер успешно провернул какое-то дельце или надул кого-то и вопреки обыкновению был при деньгах.
Они веселились вовсю — быстро перемещаясь из торговой зоны в зону развлечений и игр, все это время под кайфом. А что думала я об этом масштабном, заполненном людьми казусе — с пышностью корпоративных забав, с толчеей пролов среднего класса? Что ж, если бы они спросили моего мнения об этом путешествии в то утро в нашей квартирке в Коборн-хаусе, на улице Коборн-стрит, Майл — Энд, я бы сказала им: «Давайте не пойдем, а просто будем считать, что мы там были». Но это невозможно. Мой словарный запас в последнее время расширился — теперь я умела попросить об основных жизненных благах, — но все, что я могла, это пробормотать «муму», обращаясь к ней, и «Ра», обращаясь к нему. Да, трехэтажный Коборн-хаус со своими наружными галереями и лестницами был жалким вариантом жилища на 11-й Западной улице.
А знаете, дорогая муму, голубчик Ра, что, — пока вы толкаете меня взад и вперед, — напоминает мне Купол с его дешевым воплощением технологически продвинутого будущего, которое, как известно, никогда не наступит? Напоминает другое время и другое место, где, после того, как было удалено 6 700 ООО кубических ярдов всякого мусора, стало возможно построение завтрашнего мира. Напоминает о конусообразной колонне высотой в семьсот футов, символизирующей предел, и двухсотфутовом стальном шаре, символизирующем беспредельность. Напоминает мне о Хеликлайн, о пандусе, связывавшем их, и об огромном кассовом аппарате, который просчитывал число посетителей. Напоминает о гигантской пудренице, в виде которой был построен павильон женской косметики, и об огромной электронной лампе — павильоне «Рэдио корпорейшн оф Америка». Напоминает, как Льюис Мамфорд сказал в 1939, что Всемирная ярмарка демонстрирует «скучную и неубедительную веру в триумф современной индустрии».