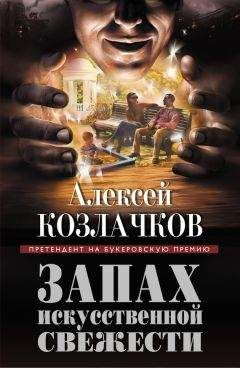Устроили конкурс, на котором победил Андреа Верроккьо из Флоренции, кстати, учитель великого Леонардо. Он представил восковую модель коня в натуральную величину, с нею и победил. Предполагалось, очевидно, что с фигурой всадника-то уж он справится и без модели. Да и то сказать – это было время первых конных монументов, они начинали входить в моду, но делать их еще никто не умел. Один конь (с всадником, разумеется) стоял в Падуе, работы Донателло – учителя Верроккьо. Бронзового коня с тех пор в Италии все хотели, хотели памятников именно на конях, а не просто пешком, но с Донателло сравниться было просто некому. Вполне возможно, заказчиков убедило то, что Верроккьо вышел из мастерской Донателло и он сможет отлить коня – мало было представить модель, нужно было еще знать сложную технологию отливки.
Получивший заказ мастер приехал в Венецию, снял мастерскую и приступил к отливке коня. И вот здесь-то и начались зловредные венецианские интриги: отливку коня они вроде бы оставили Верроккьо, а сделать самого всадника решили поручить другому скульптору, венецианцу, своему земляку. Это ведь коня никто не умел делать, а всадников умели все… Богатый заказ уплывал из рук и делился на двоих. И тогда Верроккьо взъярился, отпилил у своего воскового коня голову и ноги и, не сказав ни слова, вернулся к себе во Флоренцию с конской головой и ногами.
Венецианцы послали вслед письмо и пригрозили ему, чтоб остерегся когда-либо возвращаться в Венецию, иначе они с удовольствием оторвут уже его голову, взамен конской. Он ответил в том смысле, что поскольку они сами безголовые, то его-то голову оторвать, конечно, смогут, но вот обратно приставить голову коню они не в состоянии. А только он один и может, даже еще и получше прежней. Венецианцев это почему-то убедило, уж больно им всем хотелось помериться бронзовыми конями, и они уговорили Верроккьо вернуться и закончить памятник. Верроккьо вернулся, стал работать, сделал статую в глине, подготовил все к отливке – да внезапно умер. Статую отливал уже местный скульптор. Некоторое время народ считал, что это все его работа, местного. А недоброжелатели, которых при распределении столь богатого заказа всегда находится очень много, говорили, что Верроккьо слепил коня с содранной кожей – так подробно были проработаны у него мускулы. Но для Вероккьо это было не только тщеславная демонстрация знания конской анатомии и умения ее воспроизвести в бронзе, это был еще замах на нечто большее. Мастер предположил, что скользящий по бронзовым выпуклостям солнечный свет в предвечернее время будет создавать иллюзию движения коня и всадника. Так и оказалось, и этот замечательный эффект венецианского коня вполне удался, но сам Верроккьо его уже не увидел…
– Особенно удачным считается вид с юго-запада в послеполуденных лучах солнца, когда лихой кондотьер Коллеоне виден на фоне краснокирпичных стен и готических арок церкви Сан Джованни э Паоло – как раз в то самое время и с того самого места, где мы сейчас сидим и едим свой суп, – сказал я девице последнее слово о коне.
– Вау! – ответила девица и еще раз обернулась на коня, возжелав быть сфотографированной на его фоне – с юго-запада, в лучах послеполуденного солнца, скользящего по его освобожденным от кожи мускулам. И даже два раза: в профиль, смотрящей на коня, и анфас, смотрящей на меня; а бедро девичье при этом – то вправо, то влево. Замечательная все же девица… и бедро такое приятное, и голос красивый…
Граппа начала действовать, счастье поедания овощного итальянского супа тоже, а девица расчувствовалась, наверное, еще и от конской истории, вдруг одним духом рассказав мне все и про себя, и про свою тяжкую жизнь, которая, вполне возможно, таковою и была. Я даже и не спрашивал ничего, сама захотела поведать…
Окончила в Белоруссии, в Бресте, педагогический институт – английский, немецкий. Поехала сюда на практику, потом устроилась нянькой, потом как-то зацепилась по студенческой визе, пытается выучиться здесь – на переводчицу, только уже с немецким дипломом. Родители в деревне, помочь ничем не могут; на родину ехать тоже не хочется. Чтобы оплачивать учебу и проживание, бебиситтерствует без продыху, нянчит сразу нескольких немецких детей. Глаза усталые. Денег едва хватает на проживание, на квартиру, на учебу, которая с этого года в Германии тоже платная. Рассказывала, какие высокомерные немцы в одной богатой семье, как презрительно выговаривают за оплошности. Как приставал мужик в другой семье, а жена – вроде ничего женщина, она ей даже не сказала, чтоб не потерять клиента. Какие приличные и добрые в третьей итальянцы: провожали в Италию как родную. Хоть с ними-то повезло. А вообще-то она уже на грани того, чтобы бросить и учебу, и усилия по добыванию денег: просто очень устала, сил уже нет никаких, постоянно хочется спать, как в одном чеховском рассказе…
– Вернусь на родину. Там хоть нищие все, но все же не бегать с утра до вечера по орущим чужим детям, а по ночам зубрить науки неизвестно зачем, в одиночестве, – сказала девица Оксана почти со злобой и хлебнула еще граппы.
И тут я вдруг понял все, прежде мною недопонятое, хоть и предполагаемое: почему она связалась с джигитом, откуда это зримое несоответствие ее хрупкого и в целом очень даже приятного образа с грубоватым кавказским любовником. От отчаяния. На современном языке это, кажется, называется «спонсор». Помнится, одна моя молодая коллега по работе, из русской еще жизни, красивая и талантливая девица, устав от усилий по зарабатыванию денег, тоже мечтала о спонсоре, причем вслух. Тогда это было удивительно слушать. Казалось, это как-то бросает тень на ее моральный облик. Я даже стал ее немного сторониться, хоть и дела мне не было до этого ее… облика. А другая знакомая – даже краше первой – довольно цинично и с математическими расчетами это декларировала, отчасти бросая вызов приличиям своими декларациями и нагловатым пересверком глаз. Наступил капитализм, богатые содержатели вместе с содержанками выползли со страниц классических романов в реальность, это опять стало доминантой отношений, как и должно быть, наверное… чему ж удивляться. Каждая нормальная девица мечтает о спонсоре, да еще чтоб на белом в яблоках скакуне, да с саблей наголо. А потом он случайно валится с коня, натыкается на саблю, но не до смерти, а она делает ему искусственное дыхание… А потом всю жизнь живет, не думая ни о каких деньгах, ни о каком бебиситтерстве, не совершая никаких усилий по выживанию – и уйдет тогда из глаз эта усталая муть и злость, и добавится в глазах огней… Пусть даже он окажется и слегка лысоватым кавказцем не самого юного возраста, не всем же достаются богатые и одновременно лохматые немцы, итальянцы, французы или хотя бы украинцы.
А ухажер ее… хоть и не слишком, может быть, приятен на вид, занудлив и не очень образован, но кандидатура как раз подходящая. В Германии уже давно, работает, путешествует один и пока охотно оплачивает ее дорожные расходы и мелкие глупости… Быть бы ей моделью какой-нибудь, можно было бы и на большее рассчитывать, на того же немца или итальянца. А так – и этот пока сойдет. Не навсегда же… Эх, тяжела девическая жизнь! Особенно на чужбине…
Мне вдруг стало стыдно, что я сбил ее с толку. На что променяла прекрасного джигита? Ведь сразу ясно, что, кроме супа и приятных разговоров, от меня ничего не дождешься. Не более чем флирт… а ей этого уже не надо.
Минут за сорок до сбора группы на набережной возле кораблика дедушка занервничал, завертелся, встал со ступенек и издали показал мне рукой на часы. Он думал, что мы пойдем по тому же пути обратно, виляя по переулкам, поэтому не успеем. Но я знал более короткий путь. Мы не спеша расплатились, поболтали еще, я махнул ему рукой – и пошли. Плохо все же гулять по Венеции с девицами. Сидеть хорошо, а гулять плохо – слишком узко. Поэтому мы довольно быстро перестроились в колонну по одному: я, девица и дедушка. Я беспокойно оглядывался на него – не хватила бы человека кондрашка от спешки.
– Не волнуйтесь, – отреагировал тут же чуткий дедок своей неизменной ласковой улыбочкой на мое беспокойство, – я еще быстрее могу… я в молодости даже чемпионом был.
– Это в чем же? – спросил я.
– Спринтер я, – сказал дедушка.
– Вау! – сказала девица Оксана уважительно.
И тут я вдруг почувствовал прилив нежности и сострадания к обоим – и к девице, и к дедушке. Уже как-то сроднились… Быстро развернулся, наклонился к деду и спросил:
– А вы, часом, коньяку хлебнуть не хотите?
Я от граппы и от волнения забыл, что он только из-под капельницы. Впрочем, про капельницу он мог и наврать – для возбуждения сострадания в самом начале экскурсии, такое бывает. Бывает даже и не такое: называются родственниками и детьми русских консулов во всех странах, через которые мы проезжаем, и одновременно – больными церебральным параличом, чтоб только привлечь к себе дополнительное внимание. Все же дед довольно странный, увязался за нами…