Помолчали, скорбя и поминая.
— Наверное, и я скоро. Вот гипс сниму, — Лука постучал костылём по ноге, — и вдогонку за тобой. Скажи моим, как дома будешь: скоро ждите.
Уехал Егор. Под вечернюю зорю покидал состав Самарканд. За городскою чертой ещё один город — шалаши, землянки, палатки. Агапов, куривший у окна, спросил проводника:
— Кто это?
— Беженцы, дезертиры, переселённые — накипь всякая. Упаси Бог туда попасть.
И дабавил, видя недоумение на лице старшего сержанта:
— А ты думал, двое вас на земле — ты да Гитлер. Нет, брат, каждой швали по паре.
Кабанчик
Байтингер Андрей Августович был из поволжских немцев, переселённый на Южный Урал в военное лихолетье. Природа щедро одарила его мужскими статями, многим солдаткам мутными ночами грезился его тевтонский профиль. Но фронт сыпал похоронками, и вместо сердешного "милый" слышал он за спиной злобное: "Ишь, присосался, немчура проклятый". А присосался ссыльный к колхозному имуществу в должности кладовщика. Педантизм и немецкая аккуратность во всем и особенно в документах отчётности служили ему праведную службу, спасая от недостач, грозивших — ему-то уж точно — расстрельной статьёй. Премного им доволен был председатель колхоза Василий Ермолаевич Назаров:
— У меня кажное зёрнышко на учёт поставлено.
А когда распекали на бюро или в исполкоме нерадивых, подтрунивал:
— Прислать моего немца? Враз порядок наведёт.
Не знал Василий Ермолаевич того, что между его сверхчестным немцем и бабёшками, трудившимися на подработке семян был негласный сговор. Перед тем, как запереть тяжёлые церковные ворота — в бывшем Божьем храме хранилось колхозное зерно — на огромный амбарный замок, выходил Андрей Августович покурить на свежий воздух. Этими минутами пользовались работницы, чтобы сунуть за пазуху к тёплым грудям пару горстей зерна — чтобы дома, истолчив его в ступке, приправить жидкий супчик и покормить семью. Ревниво смотрели друг за другом, чтобы ровно две горсти и не зёрнышком больше. Уходя, прощались:
— До завтрева, Андрей Густович.
Он кивал, не глядя, пуская клубы дыма и пара, устремлял взор свой вслед светилу, западавшему за кромку голого в январе леса у Межевого озера. Солнце видело то, что скрыто от ссыльного пространством — заснеженное Поволжье, развалины Берлина.
Ворованное зерно холодило не только грудь, но и саму душу. За такое по законам военного времени кара суровая и незамедлительная — ссылка в северные лагеря с конфискацией дома и хозяйства. Кончилась война, а страх остался. Говорят, не будет поблажки. Говорят, ещё заседает в районе тройка, верша суд строгий и скорый.
Бабам и душу отвести в никчемных пересудах некогда — трусцой через заброшенный поповский сад, а за забором площадь — сотни тропок по своим углам. Там попадёшься — каждый за себя — ври, что хочешь, выкручивайся, но остальных за собой ни-ни. Дом прошли поповский — теперешняя школа, ребятишек нет: с утра отзанимались — колодец, вон забор. Батюшки святы! Кто это навстречу? Никак Назаров? У баб сердца до пяток обвалились. Да, нет. Егор Агапов, завклубом сельским. Но тоже начальство — парторг колхозный. А ктой-то с ним? По виду — городской.
— Дарья, где ты? Твой зятёк идёт. Давай вперёд.
Бабёшки уступили тропку суетливой приземистой женщине — Дарье Логовне Апальковой.
— Здорово, Гора. Как унучка?
— Здравствуй. Растёт, улыбаться начала. Здравствуйте, женщины. Назарова не видали? Корреспондент к нему приехал, из районной газеты.
— Здравствуйте. Здравствуй, Кузьмич. Нет, не видали. И на складу его не ищи, нету. Можа в МТМ, можа на ферме. На конюшне глянь — с обеда на ходке рассекал, видела.
Председателя колхоза действительно нашли на конюшне. В углу просторного помещения нераспряженный жеребок хватал клок сена уголком губ и мулозил его вместе с удилами. Глава коллективного хозяйства провалился задом в ясли, явив миру две ноги в валенках с колошами, одну руку с клоком сена в горсти и голову в треухе, мирно почивавшую в сивушных парах.
— Чёрт, нализался, — плюнул под ноги парторг.
— Погоди-ка, — засуетился корреспондент. — Исторический момент.
Он кинулся пошире отворить створки ворот, и в последних лучах уходящего солнца щёлкнул затвором аппарата.
— Постой, — усмехнулся Егор, подошёл к яслям, содрал с валенка Назарова колош и водрузил ему на голову. — Щёлкни-ка ещё раз нашего Бонапарта.
Эту фотографию и увидел народ в "Слове колхозника". Заголовок фельетона был хлёсткий, можно сказать, злободневный — "Ещё один, кому нужна была "Московская"". И звался там председатель Назаров Петровским Бонапартом.
Дочка Люсенька, первенец молодой четы, сильно приболела. Полгодика ребёночку.
— В райбольницу вам надо, — что я могу, — подняла на Агапова растерянный взгляд белёсых глаз фельдшер медпункта Смыслова Валентина. — Хрипы у ней по всей груди. И не медли: счёт на часы, может, идёт. Потеряете дочь, Егор Кузьмич. Езжайте.
— Коня, говоришь? — Назаров поднял на парторга недобрый взгляд, губы его толстые поползли к кончику носа — вылитый дуче, повешенный в Италии.
— Коня, говоришь? Куды ты на ночь глядя? Кто-то там тебя ждёт. Завтрева с утра и помчимся. Слышал, на бюро райкома нас вызывают?
Егору тошно выпрашивать сани у Назарова, но доченька… Он глубоко вздохнул и присел на стул, отвернувшись к окну.
Назаров сверлил взглядом ненавистный затылок.
Знаю, знаю, кто колошу на башку пристроил. Выжить из хозяйства хочешь, гнида? Под себя колхоз забрать?… На-ка, выкуси! Много вас, фронтовичков, понаехало. Да и мы не пальцем деланы.
— Метель днями была. Пробьёмся ли?
— Да ты что? На Гнедке-то не пробьёмся? Шалишь. С супругой поедешь? Ну, так сбирайтесь — завтрева со вторыми петухами и подъеду.
Назаров подъехал, как и обещал — ночь, будто только разыгралась: полыхает звёздами из края в край. Горячий рысак бил подковой звонкий снег, звякал удилами. Увидев Анну с дочерью на руках, укутанную в одеяло, председатель развернул в ходке дорожный тулуп:
— Спит?
Агапова всхлипнула:
— Горит вся. Не знаю уж, в памяти ли.
Егор укутал жену и дочь Назаровским тулупом, примостился сзади на сене.
— Что тут у тебя?
— А? Кабанчика завалил — куму везу. Н-но!
Рысак-трёхлетка легко взял с места.
Ходко шли. Заря полыхнула, притушив звёзды, когда Марково проехали — до Увелки рукой подать. Солнце выкатилось, месяц только потеснился, не желая уступать. Подъехали к больничным воротам.
— Ну, я к куму. Ты в райком-то когда?
Егор отмахнулся. Назаров покачал головой — за всю дорогу девочка и не всхлипнула: жива ли?
После осмотра врачиха вышла в приёмный покой.
— Как же вы такую кроху застудили? Двустороннее воспаление лёгких, температура на пределе совместимости с жизнью. У неё бронхи забиты гноем, чем дышит — уму не постижимо.
Анна всхлипнула, укусив свой кулак. Егор закашлялся. Врачиха окинула их пронзительным взглядом — деревня сермяжная.
— Её бы в Челябинск, но не доедет. Сделаем, что в наших силах. Ждите.
Егор вытерпел час, потом засуетился:
— Мне в райком надо. Посиди тут, Нюся.
Закоулками добирался, шёл мимо дома второго секретаря райкома Босого Серафима Ивановича. Увидел знакомый ходок Назарова — шилом кольнуло недоброе предчувствие и угнездилось где-то в глубине души.
В райкоме сдал взносы в сектор учёта и партбилеты на штамповку.
— Стучат, — кивнул на дверь через коридор завсектором Беспалов. — С исполкома вторую машинистку вызвали, к бюро торопятся.
Видя, что Агапова никак не заинтересовала его информация, отложил в сторону штемпель "уплачено":
— Не интересуешься? А зря. Там про тебя стучат — зайди, глянь. Из Петровки предсовета вызвали срочным порядком — Извекова вашего. Ты что-то сегодня не такой. Иди, партбилеты потом заберёшь, после бюро — мне ещё сверить надо по карточкам учёта.
Егор зашёл в машбюро, поздоровался. Выгнув шею, пытался заглянуть в завиток текста, выползающего из машинки под пулемётный перестук. Ничего не понял. Потом на глаза попала стопка отпечатанных листов:
Повестка заседания бюро Увельского райкома партии от 26 января 1948 года.
1. О подготовке очередного пленума Увельского райкома партии.
2. О работе редакции газеты "Слово колхозника" по реализации постановления Октябрьского Пленума ЦК КПСС.
3. О работе клуба Петровского сельского Совета по патриотическому воспитанию молодёжи и организации культурного досуга селян.
— Так вот он, кумов-то кабанчик! — Егор брякнул по стопке костяшками пальцев.
Машинистки вздрогнули, разом прекратив перестрелку:
— Что? Что вы сказали?
Но Егор только рукой махнул и вышел в прочь.

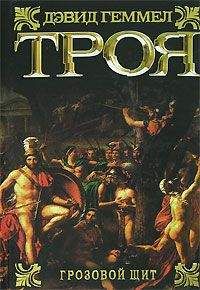
![Чарлз Робертс - В долинах Рингваака [Рыжий Лис]](https://cdn.my-library.info/books/25050/25050.jpg)
![Чарлз Робертс - В долинах Рингваака [Рыжий Лис]](https://cdn.my-library.info/books/23840/23840.jpg)
