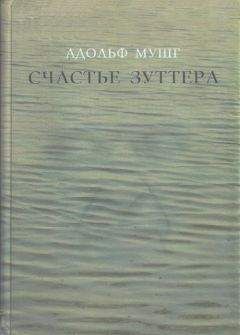Не желая этой встречи, Зуттер круче принял влево в поисках укрытия за маленькими островками, что часто попадались в дельте перед Изолой. Но так как гряда леса за ними отступала, то, надо думать, и глубина озера становилась все меньше. Волнуемая ветром водная масса стала походить на светлый купорос; черные полосы в ней говорили о покрытом растительностью дне и предупреждали о песчаных отмелях. Избавляться от своего груза здесь Зуттер не хотел. Но более глубокое место грозило встречей с существом из другого мира, которое без устали выписывало свои пируэты на поверхности озера. Надо было выйти из гостиницы как можно раньше, чтобы в этот единственный раз оказаться на озере одному. Теперь же у Зуттера было такое чувство, что его принуждают, — к осторожности или, что еще хуже, к спешке.
Он опустил весла и перевел дыхание. На вполне приемлемом расстоянии слышался шум моторов. Откуда-то появился вертолет: должно быть, срочно доставлял в клинику больного и перевозил валежник. Над Малойей неподвижным языком повисла туча, лишь ее самый верхний край трепал и завивал ветер, и на этих завитках мелькали слабые блики солнечного света.
Тем временем виндсёрфер исчез из вида. Зуттер бросил весла и, балансируя, прошел к корме. Встав на колени, он развязал рюкзак и вытащил из него тяжелый джутовый мешок с парой десятков камней. Он сунул руку в мешок, словно собирался тянуть жребий, и его рука нащупала три легких шара из хвойных иголок; он осторожно провел пальцами по круглой, чуть колючей поверхности и только потом один за другим вынул шары и положил их на свободное место между шпангоутами, где плескалась просочившаяся в лодку вода; отсюда они никуда не укатятся. Потом снова сунул руку в мешок, наткнулся на камень, ощупал его и вытянул к свету. Ребристый, величиной в половину кулака, он поблескивал своими темно-зелеными, почти черными гранями, словно кусочек застывшего потока. На вес он был довольно тяжел и казался обработанным, но поверхности были на ощупь гладкими, как шелк, точно их плавили в огне. Наверно, какой-нибудь первобытный охотник нашел его точно таким же и сдирал им кожу с животных или заострял стрелы. Зуттер опустил камень обратно в мешок. Оставшиеся в рюкзаке камни все еще изрядно утяжеляли его.
Лодка покачивалась на волнах, и Зуттер почувствовал, что незаметно подкравшееся головокружение становится все сильнее; надо было кончать задуманное. Он открыл мятую пластиковую сумку и еще раз оглядел блестевший в глубине светлый ящичек. «Раньше они заказывали свинцовые гробы, Руфь, теперь мы хороним со скидкой в шестьдесят процентов». Он закрутил сумку так, что стали неразборчивы надписи на ней и она плотно облегала деревянный ящичек; затем зажал зубами крепко скрученную горловину, затянул ее — дважды и трижды — заранее приготовленным шнуром из кокосового волокна и только потом перевел дыхание и завязал узлом; как только он это сделал, верх сумки раскрылся, словно искусственный цветок. Он с трудом поднял сверток — видимо из-за дрожи в руках — и положил его в джутовый мешок; сверток плотно лег на основание из камней. Сверху осталось еще достаточно места для трех сильских шаров, он положил их на ящичек и убедился, что они не пострадают, когда он закроет мешок.
Из наружного кармана рюкзака он вынул золотые карманные часы на длинной цепочке, когда-то их носил дедушка Руфи. Они давно уже не ходили, и Руфь поставила стрелки на время своего рождения: 11 часов 17 минут. Утра или вечера? Леонора составила Руфи гороскоп. Смерть в нем не предусматривалась. Зуттер постоянно путал дату рождения Руфи, но она только смеялась: «Ты не помнишь и своего собственного». Но дедушкины часы должны указывать минуту, на это они еще годились. «Теперь, Зуттер, я родилась навсегда».
Зуттер отделил часы от цепочки и положил их между сильскими шарами. Они взвесил на руке тяжелую серебряную цепочку. «Сейчас я завяжу мешок, Руфь, завяжу узлом, который время не скоро развяжет».
Зуттер с усилием поднял мешок и перевалил его через край лодки; груз тут же потянул его за собой, но едва он коснулся поверхности воды, как тяга ослабла настолько, что Зуттер, пошатываясь из стороны в сторону, мог удерживать его в руках. «Руфь, ты первая, ты последняя. Не возвращайся, побереги потусторонние силы. Мы сделаем по-другому. Тебе еще предстоит кое-что узнать».
Зуттер перестал судорожно напрягать ноги, они покачивались в такт волнам и почти без его участия принялись слегка пританцовывать, не ощущая тяжести тела. Перед ним с неописуемой ясностью расстилалась водная гладь, поднимаясь на фоне Малойи так высоко к небу, что, казалось, она сливалась с ним. Стояла полнейшая тишина. За крутыми уступами Марньи ландшафт как будто обрывался, вдали, из-за размытого горизонта, выглядывали только несколько словно плывущих вершин. Но и они, несмотря на холодный день, все еще несли на себе следы безоблачного юга, к которому они стремились, оставляя за собой залитое совершенно прозрачным светом высокое зеркало воды и прощаясь с ним.
Почти озорно перегнувшись через край лодки, Зуттер крепко держал мешок за цепочку, проверяя, не ослаб ли под тяжестью груза узел, распушившийся короной из джута. Он видел, как темнеет, набираясь влаги, и расширяется мешок, так как не все в нем хотело сразу погружаться на дно. «Ты всегда хорошо плавала, Руфь, лучше, чем я. В море, на озере или в бассейне — каждый раз ты без усилий уплывала от меня, пока я молотил руками по воде, точно дрова рубил. Погружайся легко, Руфь, но надежно».
Зуттер откинулся назад, держа мешок в воде; побелевшими пальцами он раскачивал его вдоль борта, словно пакетик чая, чтобы напиток получился крепче. Вперед, назад, груз в его руке получил нужное направление, и Зуттер отпустил его.
Он смотрел вслед мешку, который тонул без промедления, но и без спешки. Над ним сомкнулась неопределенность. Зуттер поднял рюкзак и просунул руки в лямки, не забыв предварительно закрыть все карманы. Потом сел на край кормы и повернулся так, чтобы ноги свисали к воде. Затягивая лямки на груди, он почувствовал ледяной холод воды, медленно проникавшей сквозь кроссовки и носки. Потом появились пузыри.
Зуттер удивился, этого он не ожидал. Однако все было более чем естественно. Целые гроздья пузырей поднимались на поверхность и лопались в воздухе с едва уловимым треском. Вот еще один, и еще, а следом вынырнул совсем маленький.
Легкая буря, идущая из глубины, казалось, утихла, но Зуттер все еще не падал. Он ждал, не спуская глаз с воды. И они появились, редкие, по отдельности, их можно было сосчитать. Вдруг всплыл целый венок пузырьков, скромный букет под занавес, он на несколько мгновений задержался на поверхности, прежде чем исчез; словно это был другой воздух, который кто-то задержал, чье-то дыхание.
— Так тому и быть, — были его последние слова.
44
Нужно испить чашу страданий до дна — вот что существенно. Уходить из жизни раньше времени некрасиво.
Выражение «смертию смерть поправ» тут и вовсе некстати. Кто так говорит, тот представления не имеет, что это такое. Остается приверженцем так называемой «борьбы». Когда речь заходит о смерти, выражения такого рода просто неуместны.
Бороться со смертью за свою жизнь — значит висеть на шнуре или на ниточке и, держась за них, пытаться выбраться, вытащить себя из пропасти. Если повезет, то история, которую ты называешь борьбой, продлится еще немного и ее можно будет рассказать; пока же об этом и говорить нечего. А если нет, если останешься висеть до тех пор, пока не лопнут шнуры и нитки, то можно продолжать словесную вязь. Перед тобой совсем другая проблема.
Слово «агония» можно использовать только в том случае, когда ты борешься не за свою жизнь, а за свою смерть. Ты уже сделал этот шаг, но тут вдруг появляется некто, желающий тебя удержать. Ты уже не ощущаешь холода, уже миновал самое мучительное и мерзкое состояние, называемое удушьем; но ты, вероятно, еще помнишь первый урок, полученный в так называемой школе жизни, например, в школе плавания, которой ты так боялся в детстве, или урок, усвоенный после прострела легкого. Самым же первым уроком было событие, которое не сохранилось в твоей памяти, — твое рождение. Будем, однако, надеяться, что всякая агония, перейдя некий рубеж, заканчивается спокойной смертью — такой, какая бывает, когда замерзают в снегу. Главное — испить чащу страданий до дна, почувствовать, что все некрасивое и неуместное перестает что-либо значить.
Но бороться, напрягая последние силы, за свою смерть — это по-настоящему больно, как скажет потом та, что пыталась тебя спасти. То, что осталось в тебе от жизни, целиком отдано расставанию с ней. И вдруг этот остаток ты должен употребить на то, чтобы не допустить к себе другую жизнь, закаленную спортом и решившую во что бы то ни стало спасти тебя. Ведь могло случиться, что тебе пришлось бы вцепиться в такую мерзкую штуку, как неопрен — разве нынешняя молодежь этого не знает? Что до неопрена (чтобы уже раз и навсегда избавить себя от разборок с производителем этой ткани) — это почти то же самое, как если бы ты запустил руку в букет белых роз, уцепился за мокрые от слез волосы или за по-христиански протянутую руку с подаянием. Ужасна борьба сама по себе, если ее приходится вести против жизни за собственную смерть — и, значит, против самых страшных недоразумений, сопровождающих всякого рода присловия о жизни и смерти.