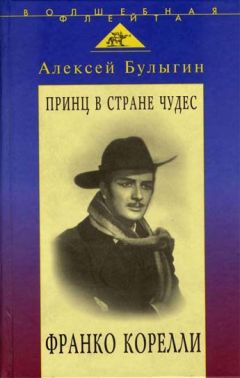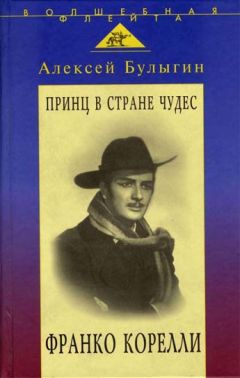Капитан вскинул голову.
– Блокаду держат англичане. Они полагают, что наилучшим образом помогут вам, уморив вас голодом. И вы прекрасно знаете – я делаю всё, что могу, чтобы помочь.
– Мы весьма ценим ваши заимствования из армейских запасов, но ситуация, к сожалению, усугубляется. Нам необходим белок. Вот до чего нас довели, понимаете?
– У нас дома улитки – дорогостоящая роскошь.
– А здесь они – прискорбная необходимость.
Капитан отер со лба пот и проговорил:
– Позвольте мне пойти с вами и помочь.
Вот так тем же вечером, за час до захода солнца и вскоре после наступления прохлады, Пелагия с отцом, Лемони и капитан очутились там, где пришлось пробираться через невероятную путаницу звериных ходов и вереска, карабкаться по осыпающейся стене и прокладывать путь под ветвями древних заброшенных олив.
Доктор пробирался позади Лемони, а та вдруг остановилась и, обернувшись, взглянула на него.
– Вы говорили, – с упреком сказала она, – вы говорили, что если бы пошли искать улиток, то вас куда-то там забрали бы и заперли.
– В Пирей, – сказал доктор. – Я говорил, что меня отвезли бы в Пирей. Как бы там ни было, нас всех сейчас заперли.
В этом сумеречном свете обнаружилось, что на обратной стороне нижних листьев живут легионы жирных улиток, соревнующихся друг с другом в пестроте раскраски. Рыжевато-коричневые с почти неразличимыми отметинками, светлые с завитками полосок, охряно-желтые и ярко-лимонные, улитки с красными крапинками и черными точками. Перепархивая с одной верхней ветки на другую, сицилийские певчие птицы настороженно прислушивались, как в ведерки с глухим стуком и пощелкиванием падает урожай.
Ребенок и трое взрослых настолько увлеклись этим занятием, что сами не заметили, как разделились. Доктор и Лемони исчезли в одном проходе, а капитан и Пелагия – в другом. В какой-то момент капитан оказался один и остановился на минутку, размышляя: странно – он не мог припомнить, чтобы когда-нибудь был так удовлетворен. Он беззаботно махнул рукой на плачевное состояние брюк на коленях и, прищурившись, посмотрел на солнце, чей малиновый свет смягчался среди тонких веток и листьев. Расслабленно присев на землю, он сделал глубокий вдох и выдох. Сбросил пальцем улитку, пытавшуюся выползти из ведерка.
– Плохая улитка, – сказал он и с облегчением подумал, что никто не услышит, как он говорит подобные глупости. В отдалении треснула зенитка, и он передернул плечами. Наверное, просто палят.
– Ох! Ой! – раздался поблизости голос – несомненно, Пелагии. – Господи!
Ужаснувшись чудовищной мысли, что ее могло задеть осколком шрапнели, капитан упал на четвереньки и быстро пополз по своему проходу туда, откуда донеслись восклицания.
Пелагия застыла, изогнувшись и откинув назад голову. Она стояла на четвереньках, длинная тонкая струйка крови пересекала наискось ее щеку, и она была явно крайне раздражена.
– Che succede?[129] – спрашивал он, подползая к ней. – Che succede?
– Я зацепилась волосами, – негодующе ответила она. – Колючка оцарапала мне щеку, я голову отдернула и зацепилась за этот вереск, а распутаться не могу. И нечего смеяться!
– Я не смеюсь, – сказал он, смеясь. – Я испугался, что вас ранило.
– Меня и ранило. У меня щеку саднит.
Корелли достал из кармана носовой платок и приложил к царапине. Показав ей кровь, он беспечно сказал:
– Я навсегда сохраню это как сокровище.
– Если вы не распутаете меня, я вас убью! Сейчас же перестаньте смеяться!
– Если я не распутаю вас, вы никак не сможете поймать меня, чтобы убить, правда? Ладно, не двигайтесь.
Ему пришлось просунуть руки ей за плечи и заглядывать за ухо, чтобы видеть, что делает. Ее лицо прижалось к его груди, и она чувствовала шероховатость материи и запах пыли от его формы.
– Вы мне нос расплющите, – пожаловалась она.
Корелли с удовольствием втянул воздух – от Пелагии всегда пахло розмарином. Юный свежий запах, он напомнил ему о праздничных застольях дома.
– Может быть, придется отрезать, – сказал он, безуспешно дергая черные пряди, запутавшиеся вокруг колючки.
– Ой-ой-ой, хватит дергать, осторожнее! И не смейте отрезать!
– Вы в весьма уязвимой позиции, – заметил он, – поэтому не будьте неблагодарной. – Он вытаскивал волосок за волоском, следя за тем, чтобы не пропустить ни одного и не причинить ей боль. Руки у него начали ныть, из-за того что он долго держал их на весу, и он положил локти ей на плечи.
– Готово, – сказал он, довольный собой, и стал отодвигаться. Она с облегчением потрясла головой, и в тот момент, когда губы капитана оказались у ее щеки, он нежно поцеловал ее возле уха – там, где был едва приметный мягкий пушок.
Она коснулась кончиками пальцев места поцелуя и сказала с упреком:
– Не нужно было этого делать.
Он отодвинулся на коленях, не сводя с нее взгляда.
– Я не мог удержаться.
– Вы воспользовались преимуществом.
– Прошу прощения.
Долгое мгновенье они смотрели друг на друга, а потом, по непонятной для нее самой причине, Пелагия заплакала.
– В чем дело? Что случилось? – спрашивал Корелли, сморщившись от испуга. Слезы катились у Пелагии по щекам и капали в ведерко на улиток.
– Вы их утопите, – сказал он, указывая на ведерко. – Ну, что случилось?
Она жалобно улыбнулась и снова зарыдала. Он обнял ее и погладил по спине. Почувствовав, что у нее потекло из носа, она забеспокоилась, что обсопливит ему погон, и сильно шмыгнула. А потом внезапно выпалила:
– Не могу я этого больше терпеть, совсем не могу!
Простите меня!
– Все паршиво, – согласился капитан, раздумывая, нельзя ли и ему поддаться соблазну поплакать.
Он нежно взял в руки ее лицо и коснулся губами слезинок. Пелагия удивленно посмотрела на него долгим взглядом, и неожиданно оказалось, что под зарослями вереска в лучах заходящего солнца, с двумя ведерками расползающихся улиток по бокам, со стертыми и испачканными коленками, они бесконечно слились в своем первом, непатриотичном и тайном поцелуе. Изголодавшиеся и отчаявшиеся, наполненные светом, они не могли оторваться друг от друга, и когда наконец уже в темноте вернулись домой, их объединенная добыча позорно и обличительно не достигала доли, собранной одной Лемони.
42. Как похожа мандолина на женщину!
Как похожа мандолина на женщину, сколь изящна и как восхитительна! По вечерам, когда воют собаки, трещат сверчки и поднимается над холмами огромная луна, а в Аргостоли мечутся в ложной тревоге прожектора, я беру мою милую Антонию. Я легко касаюсь ее струн и говорю ей: «Разве возможно, чтобы ты была сделана из дерева?»; точно так же, видя Пелагию, я спрашиваю беззвучно: «Правда ли, что ты сотворена из плоти? Разве нет здесь пламени? Исчезающего следа ангелов? Чего-то совершенно чуждого костям и крови?» Я ловлю ее взгляд, когда она проходит мимо, – взгляд столь открытый и насмешливый, он не избегает моего. Она поворачивает голову – улыбка, лукавая и понимающая улыбка – и уходит. Я вижу, как она идет за водой, потом возвращается, неся вазу на плече, ожившая кариатида, а когда проходит мимо, немного воды выплескивается мне на погон. Она, смеясь, извиняется, а я говорю: «Ничего, бывает», – и она знает, что я понимаю – это не случайно. Она сделала это, потому что я – солдат и итальянец, потому что я – враг, потому что она – забавная, потому что ей нравится дразнить, потому что это – сопротивление, потому что я ей нравлюсь, потому что это – общение, потому что прежде мы – брат и сестра, а уж потом она – гречанка, а я – захватчик. Я замечаю, что ее запястья напоминают стройные шейки мандолин и ладонь расширяется от запястья, как головка с колками, а место, где пятка грифа, возвышаясь, соединяется с кузовом, дает то же очертание, что и линия ее шеи и подбородка, и так же сияет мягким глянцем юности и хвойного дерева.
По ночам я вижу Пелагию в снах. Приходит Пелагия, раздетая, и я вижу, что ее груди – спинки неаполитанских мандолин. Я беру их в ладони, они прохладные, как дерево, и теплые, как податливая материнская плоть; она поворачивается, и я вижу, что ее ягодицы – округлые, грушевидные, поющие мандолины, окантованные перламутром и кусочками черного дерева, выпукло суживающиеся в талию. Я в смятении, ищу струны, застигнут страстным, до боли в чреслах, желанием и просыпаюсь, сжимая Антонию, увлажненный своим вожделением, исколотый царапающими кончиками струн, в поту. Я укладываю Антонию и произношу: «О, Пелагия!», и некоторое время лежу без сна, думая о ней, и только потом заставляю себя уснуть, потому что тогда скорее настанет утро и я увижу Пелагию.
Я думаю о Пелагии на языке аккордов. У Антонии есть фи аккорда, живущие рядышком на первых трех ладах – «до», «ре» и «соль», и прижимаются они двумя пальцами по очереди. Я играю «соль», передвигаюсь через лад и беру «до», и они звучат в отзвуке друг друга, как сопрано и контральто в «Тосканской песне», в той же тональности. Изогнув руку, беру «ре», делаю двойной интервал, и аккорд связывается с двумя другими, но он печальный и незавершенный, как нетронутая девственница. Он умоляет меня: «Верни меня назад, туда, где я могу обрести покой», и я возвращаюсь к «соль», и всё закончено, и я ощущаю себя самим Господом, сотворившим женщину и увидевшим, что мир Его стал совершенен при последнем завершающем мазке.