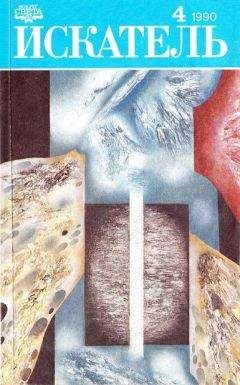Конечно, персонажи «Доктора…» — всего лишь ярко раскрашенные комедийные маски, потешные куклы, разыгрывающие развеселую, с привкусом черного юмора экстраваганцу. Однако все они, в отличие от персонажей «МФ» и «Однорукого аплодисмента», наделены редкостным обаянием и живут отнюдь не кукольными страстями.
Эдвину Прибою — тому вовсе не до смеха. Всю сознательную жизнь он прозябал в уютном коконе чистой науки, в стерильном мирке фонем и лексем, не имеющих прямого отношения к грубой действительности. Но вот волею судьбы книжный червь выброшен в жестокий мир, где слова «смерть», «измена», «отчаяние» наполнены реальным содержанием и от человека требуется нечто большее, нежели рассуждения о народной этимологии и «билабиальных фрикативах в лондонском английском низшего класса в 19 веке». И хотя начиная с 11 главы сюжет романа колеблется между фантастической явью и прозаическим послеоперационным бредом, к финалу эксцентрическая комедия о злоключениях незадачливого филолога-рогоносца оборачивается настоящей трагедией. Беспомощный герой теряет работу, от него уходит жена — «Ты вроде машины, а мир нуждается в машинах… Тебя можно использовать. Но мне машина не нужна», — и он, украв чужую одежду, в очередной раз сбегает из больницы, отправляясь на поиски «пикантных авантюр» и загадочного господина по фамилии Танатос, что на греческом, как всем хорошо известно, означает смерть.
Трагические нотки — безусловно, отзвуки невеселых жизненных обстоятельств самого автора — настойчиво вплетаются в партитуру комической фантасмагории, придавая ей дополнительное смысловое измерение и возвышая ее до уровня настоящего искусства.
«Я пытался писать комические романы о трагической участи человека», — так формулировал свое творческое кредо Энтони Бёрджесс. И на этом пути ему иногда удавались настоящие шедевры, выдерживающие сравнение с лучшими образцами классической литературы.
Думается мне, именно такого рода произведения Бёрджесса, как «Доктор болен» (по точному определению критика Бернарда Бергонзи — «пикарескные романы с метафизическим оттенком»), вобравшие в себя все лучшее, что дала великая традиция английской сатиры — от плутовских романов Филдинга и Смоллетта до «черных комедий» Ивлина Во, — составляют наиболее ценную часть его необъятного творческого наследия.
Вполне допускаю, что Бёрджесс никогда не займет в сознании просвещенных российских читателей верхних ступеней ценностной иерархии, которые прочно зарезервированы за такими его соотечественниками, как Голдинг и Старк. «Возможно, стать великим писателем ему мешали его непоседливость, нетерпеливость, сверхпродуктивность» (точка зрения одного из приятелей Бёрджесса, американского прозаика Пола Теру) и, прибавим от себя, слишком большое количество откровенной халтуры, рассчитанной на продажу: подобный балласт свинцовым грузом тянет на дно репутации даже самых талантливых и изобретательных авторов. Но если под художественной литературой прежде всего понимать отдельно взятые творения, а не шаткие пирамиды репутаций и череду скоропортящихся «измов», тогда многим вещам Бёрджесса, уже переведенным или ждущим перевода на русский, гарантировано почетное место на книжных полках ценителей изящной словесности.
Николай МЕЛЬНИКОВ.
День открытых дверей
Т. В. Васильева. Комментарии к курсу истории античной философии. М., издатель Савин С. А., 2002, 449 стр
На вопрос о том, что такое высшее образование, можно дать два разных ответа, >каждый из которых будет при этом по-своему справедлив. С одной стороны, учеба — это усвоение программы, овладение соответствующими ей знаниями и навыками. Учащийся «проходит» и «сдает» определенный набор предметов, необходимых для получения диплома по той или иной специальности. При этом учащийся располагает разного рода пособиями и учебниками, и роль учителя сводится практически к функции проверяющего степень усвоения знаний учащимся на том или ином уровне обучения. Наиболее последовательно этот подход проявляется в дистантной форме обучения, когда учитель и учащийся вступают в непосредственный контакт лишь в период сессий.
Однако есть и другой аспект получения образования, о котором часто забывают (особенно когда система образования ориентирована на количественную составляющую процесса), но без которого нет настоящего приобщения учащегося к науке. Это — включение в традицию, возникающее только в результате продуктивного диалога между учеником и учителем. В результате такого диалога учитель передает ученику нечто такое, чего нет ни в каком учебном пособии, ни в какой книге, ведь сама по себе «книга и сообщает и разобщает, ложась преградой между нами и мыслью… Заражает только непосредственное присутствие»[58]. Но если это так, то какая роль остается напечатанному слову? Новая книга Т. В. Васильевой подсказывает такой ответ: хорошая книга — это источник знаний (то есть вещь небесполезная в границах первого аспекта образования) и одновременно — указание на что-то иное, лежащее по ту сторону всякого положительного знания, или, иначе говоря, указание на собственную недостаточность. Как же она это совмещает?
Название книги Васильевой не предвещает каких-либо неожиданностей, указывая на то, что книга является чем-то вроде факультативного чтения по теме «История античной философии», изучаемой на философских факультетах и кратко упоминаемой в программах по философии непрофильных вузов. О том же недвусмысленно говорит и подзаголовок книги — «Пособие для студентов», и, наконец, авторское посвящение, где контингент предполагаемого читателя еще более сужен: «Книга посвящается философам-первокурсникам». Но нет ли в этой слегка назойливой самоидентификации книги — «я только учебник, да и то не необходимый» — доли авторской иронии? Думается, что есть, и немало. В самом деле, если называть «комментарием» включенные в книгу статьи о философских категориях досократиков, неторопливое путешествие по диалогам Платона с привлечением широкого «общекультурного» греческого контекста, исследования по текстологии платоновского корпуса, анализ аристотелевского понятия «природы», детальное рассмотрение атомистических построений греческой философии и стоической картины мира — говорю лишь о некоторых из затронутых в книге тем, — то возникает вопрос: если это комментарии, то где же сам курс? Каким должен быть «курс по истории античной философии», чтобы не быть поглощенным таким комментарием, чтобы иметь право на такой комментарий? Хотя в книге соблюден принцип хронологии в последовательности рассматриваемых тем и подаче материала, в результате ее прочтения возникает устойчивое ощущение, что она не может быть включена в качестве комментария или дополнения к «правильному» учебнику, который охватывает «весь» предмет при помощи унифицированного языка описания и классификационного инструментария. Греческая мысль в текстах Васильевой предстает слишком разноликой, чтобы быть частью такого курса. Кроме того, что это за «философы-первокурсники», которым посвящена книга? Разве не верна максима «пока не научился (то есть не прошел все требуемые для овладения профессией ступени и не подтвердил установленным образом свою квалификацию) — ты не философ (историк, химик, сапожник…)»?
И все же это действительно комментарии, причем комментарии к учебному процессу, и посвящение книги учащимся — не случайно. Однако комментарии эти — не к «изложению основных положений» греческой философии, которое само есть комментарий, а к тому, что предшествует любой концептуализации и систематическому изложению, — к переводу. В основе многочисленных учебных курсов Васильевой, предметом которых был анализ фрагментов текстов досократиков, Платона и Аристотеля, лежала ее убежденность в том, что понимание греческой мысли может возникнуть лишь в опыте осмысленного перевода текста-источника, ведь «всякий перевод — дело мастера, при том, что не только его делает мастер, но и оно делает мастером того, кто его делает. Это что касается умения. Оглянись, переводчик, пока ты еще в недоумении. Может быть, потом будет поздно» (глава «Оглянись в недоумении»). Внимание переводчика даже не к структурной единице текста, а к слову, характерное для включенных в книгу статей и размышлений, которое, казалось бы, неизбежно сужает горизонт исследования, в действительности скорее является отказом от «прямой перспективы» обозревания своего предмета в пользу обратной, когда целое текста видно только сквозь его мельчайшую частицу. Напротив, легкость обобщения и построения масштабных картин «эволюции греческой философской мысли» обычно покупается забвением того, что философская мысль дана нам в форме текста, текст состоит из слов, а сколько-нибудь внимательный анализ слова заставляет тонуть в смысловом многоголосье.