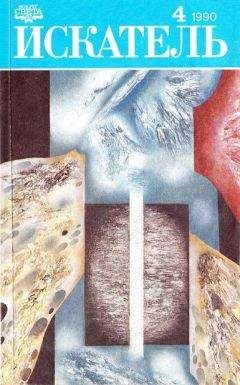Текст-источник раскрывает свою внутреннюю бесконечность, вызывая массу «комментариев» даже при самом поверхностном с ним знакомстве. Учитель («мастер») здесь в гораздо большей степени необходим, чем при ознакомлении учащегося с «основными положениями», ввиду отсутствия «правил избегания ошибок», каковые правила можно выучить. Мастер в свою очередь также не является держателем единственно правильного комментария, что можно видеть на примере часто упоминаемого Васильевой М. Хайдеггера, чья артистическая философия возникла во многом из требования перевода текстов греческих классиков, аутентичного породившей их культуре.
Итак, «Комментарии…» (и комментарии) являются зримым результатом такого рода учебного процесса, но сами по себе они его не исчерпывают и тем более не заменяют, а лишь указывают на него как на нечто, вообще говоря, возможное. Центральная по своему положению в книге глава — «„День открытых дверей“ в платоновской Академии», где на примере композиции и структуры диалога «Теэтет» демонстрируется модель «академического обучения»:
«Неужели перед нами приоткрывается святая святых Академии? Несомненно! В Академии сегодня день открытых дверей! Именно это означает тот парадный гул, который не отпускал нас от текста и заставлял вновь в него вчитываться. Теперь понятно — вчитываясь, нужно еще смотреть во все глаза по сторонам — мы внутри Академии, такое бывает не каждый день. Мы имеем возможность видеть, какая здесь ведется работа, какими методами, на каком материале, в каких формах.
Итак, примечаем. Занятия проходят в небольших группах, в данном случае межвозрастных, старые вместе с малыми. Работа ведется как индивидуально, так и перекрестно, в присутствии и при участии слушателей. Протагонистом остается Сократ (учитель), второй актер вызывается попеременно. Как водится, иные отнекиваются, но Сократ так или иначе добивается своего, и отвечать приходится всем, не только отличникам…
Ставится вопрос — что есть знание? Он обсуждается пространно и долго, дается не один вариант ответа, все варианты обсуждаются многосторонне, с привлечением наглядных примеров, цитат, мифов, гипотетических картин…
Философы-предшественники и философы-оппоненты упоминаются без счета. Цитаты редки и повторяются неоднократно…
Но что же мы видим в качестве итога, сухого остатка? — Отсутствие решения в конце диалога. Такое позволяли себе только в Академии».
«Отсутствие решения» не является ни признанием в собственной некомпетентности, ни софистическим релятивизмом, но формой служения Истине, которая «требует от человека выхода за пределы своей смертной природы». Книга Васильевой заканчивается неожиданно: тезисами о смысле жизни. Речь в них не идет ни о философии, ни об античности, но лишь о том, что «жизнь есть форма и потому сама есть смысл… Жизнь творится как художественное произведение, обрастая подробностями, деталями, перипетиями, переживаниями». Но процесс творения не бесконечен: он имеет цель, предполагает завершение, «быть» стремится к «есть». «И тогда уже становится важнее всего вовремя и на месте поставить последнюю точку, наложить последний мазок, взять последнюю ноту. Жизнь как смысл не знает ни „было“, ни „будет“, она всегда „Есть“». Неожиданность финала побуждает ко второму прочтению, из которого убеждаешься, что тема жизни и смысла, «быть» и «Есть», — главная тема книги, по отношению к которой все остальные имеют лишь «технический» характер; особенность же этой темы в том, что она не поддается абстрактному рассмотрению, уходя в области своей «исторической прописки», то есть в античность Платона и Поликлета, в напряженность вопроса о форме и жизни, текущем и неизменном.
Максим МОНИН.
Книжная полка Дмитрия Быкова
+7
Виктор Шендерович. Здесь было НТВ. М., «Захаров», 2002, 320 стр.
Этой книге куда больше подошло бы название «Записки городского невротика» (см. ниже о книге Вуди Аллена под этим титулом). Написана она гораздо лучше, нежели большинство текстов американца, потому что у автора есть Святое. Жаль, что оно такое специфичное. Всегда лучше, когда во что-нибудь веришь: оно и для творчества благотворнее. Правда, заносит иногда в пафос, но для меня это не ругательное слово.
Если же говорить серьезно, перед нами жуткое и поучительное зрелище — честное и талантливое саморазоблачение человека, имевшего неосторожность поверить в правоту и совершенство одной из сторон в конфликте двух заведомо омерзительных сущностей. Опасно переносить диссидентскую мораль, сформировавшуюся как-никак еще в расцвете советской власти, на ситуацию полной взаимной деградации оппонентов, когда добро от зла уже практически неотличимо. Правду сказать, еще во взаимно открытой переписке Шендеровича с Кохом оппоненты стоили друг друга. Впрочем, в книге «Здесь было НТВ» есть по-настоящему славные страницы, в которых автор обретает вдруг и самоиронию (подлинную, а не имитируемую), и трезвый взгляд на ситуацию и даже позволяет себе ощутить некоторый ужас от того, в какое безнадежное и ложное противостояние его занесло. Как ни кинь, а книга талантливая. Впрочем, это лишь проблески, и автор тут же вновь принимается доказывать неведомо кому (себя он, надеюсь, все равно никогда в этом не убедит), что он настоящий либерал, безупречный, как Киселев, и пассионарный, как Политковская. Как бы то ни было, книга чрезвычайно показательна. После нее начинаешь ненавидеть Гусинского уже по-настоящему. Кем надо быть, чтобы покупать романтического семидесятника, истинного поэта, человека большого и честного таланта, на святые для него понятия свободы, чести, дружества, командной солидарности… и для чего, Боже мой?!
Впрочем, и неправому делу надо уметь служить добросовестно. Книга Шендеровича последовательна, а потому достойна. Автор необычайно честен даже там, где либо передергивает, либо искренне не видит очевидного. Боюсь, из всей команды НТВ настоящим идеалистом остается только он. Получился своеобразный «Арион» наоборот: певцу, кажется, как следует переломало ребра, о чем он и кричит на трехстах страницах, покуда прочие обитатели челна сушат влажные ризы на солнце под скалою и сами, кажется, не очень уже понимают, куда ж нам плыть.
Эдуард Лимонов. В плену у мертвецов. М., «Ультра-Культура», 2002, 440 стр. («Жизнь запрещенных людей»).
Это очень страшная книга — лефортовский дневник Лимонова. Самая страшная из написанных им в тюрьме. Про тюрьму в России не то чтобы любят читать (как такое любить?), но читают усиленно, потому что не застрахован никто. Вариант Лимонова, казалось кому-то, не худший: в Лефортове, тюрьме для государственных преступников, нет давки в камерах и есть минимальная возможность писать. После этого дневника видно, что Лимонову и в Лефортове не дают покоя: прессуют при помощи сокамерников, утонченно пытают надеждой, врут на него, как на мертвого, и очень надеются, что именно таким мертвым он и станет. Чтобы не пришлось уже доказывать его вину и можно было спокойно вписать новую строчку в мартиролог отечественной словесности.
Я не хочу тут обсуждать партийные программы Лимонова, его взгляды, обоснованность его вины и проч. Я хочу только, чтобы эту книгу прочло возможно большее число людей, потому что она, и только она, открывает истинное лицо России и российской власти в частности. Из дневников и очерков Лимонова отлично видно, кто тут настоящая оппозиция и кто, смея называть себя государственником, эту оппозицию давит — просто за то, что она талантлива. Я не говорю уже о потрясающей новелле «Возлюбленная партии». Очень может быть, что все это — болезнь Лимонова и вся партия — его болезнь. Но что делать в нынешней России человеку с темпераментом солдата и любовника, с биографией романтического поэта? Поневоле с ума сойдешь.
Поздравляю вас, Эдуард Вениаминович, с шестидесятилетием. Как хотелось бы, чтобы вы встречали его уже на воле.
Давид Самойлов. Поденные записи. В 2-х томах. М., «Время», 2002. Т. 1 — 420 стр., т. 2 — 450 стр.
Дневники Давида Самойлова — не самое приятное чтение, и автор их — не самая приятная личность. Какую-то мучительную несвободу и скованность преодолевает он на каждом шагу, силясь договориться до последней правды и в последний момент пряча ее за новоизобретенными наименованиями, перекодировками и умолчаниями. Это же касается и многих стихов Самойлова, среди которых есть первоклассные, а есть и такие, что возникает опасный вопрос: ну да, замечательная ледяная броня, но есть ли что-то за этой броней? Трудно согласиться с самойловской апологией хорошего вкуса и с искренним желанием «сбежать с уроков» (определение Слуцкого), «выпасть из фуры в походе великом» (определение авторское). Боюсь, что такое желание диктовалось не самым почтенным стремлением быть правым всегда и перед всеми, а этого, к сожалению, не бывает: даже музыка не всегда права. Для меня убедительнее заблуждавшийся Слуцкий, писавший почти ежедневно, или уж ироничный и либеральный Львовский, бросивший писать вовсе (а как начал!). Стихийный государственник Самойлов, воспитанный пушкинской традицией, все пытался примирить это свое полуосознанное государственничество с вроде как обязательным, предопределенным, почти навязанным либерализмом; преклоняется он все равно перед Солженицыным, а не перед Копелевым и не перед Сахаровым (эти — милые, но — «свои», домашние, не великие).