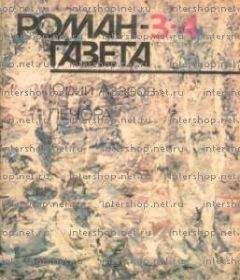— Что так?
— Ты себе представить не можешь. — И он покосился в мою сторону.
Я понял: не станет Гера говорить при мне.
— Есть хочешь? — спросил Толя.
— Спасибо… Чаю бы выпил. Все как-то сразу навалилось на меня. Надо отчаливать. И чем быстрее, тем лучше.
— Что, совсем неважнецки?
— Совсем, — ответил Гера и выругался.
Он с наслаждением хлебал чай. Изредка в упор смотрел на меня. И я рассматривал его. Вся моя способность ненавидеть сейчас подступила ко мне, ударила по каким-то особым струнам, отчего голова хмелем взялась, замутилось все перед глазами.
— А что такое капитан, Брыскалов? — спросил я. — Оказывается, родственник он Шафранову?
Толя и Гера переглянулись. Взгляд был кратким, но точным.
— Родственник он Шафранову, ну и что? — ответил Гера.
— Так просто, — ответил я. — Интересно просто. Говорят, что у него неприятности большие, а тут еще родственника принесло.
— Какие неприятности? — спросил Толя.
— По делу этой девицы, — сказал я. — Морозовой. Слышал я, комиссия приехала. Еще неизвестно, чем и. как дело обернется. Говорят, и капитан Брыскалов на эту комиссию работает. Какая-то сволочь у нее в номере побывала перед убийством…
— Перед убийством? — спросил Толя.
— В том-то и дело, что перед убийством, потому что никакого самоубийства не было. Я человек неопытный, но во время вскрытия эта сторона никого не интересовала.
— Что-то ты много говоришь про это… Давайте выпьем, — предложил Толя и, не спрашивая, налил в стаканы.
Я понял, что ему очень хотелось, чтобы я разом опрокинул весь чайный стакан, а мне ужасно захотелось знать, для чего это ему надо. И я сказал, что после каждого из них я тоже выпью залпом. У меня уж такая была особенность, что если я весь в, мобилизации, то никогда не пьянею, пока тормоза держат. Гера с Толей выпили. И я залпом опрокинул чайный стакан. Закусили.
— Так что насчет вскрытия? — спросил Толя…
— А что такое эксгумация? — спросил я в свою очередь. И пояснил: — Я знаю, что такое эксгумация. Я, например, сейчас отчетливо помню следы пальцев у ног и в области живота. Тело белое, а следы пальцев синие. Я только забыл, кто сказал тогда об изнасиловании. Может, Россомаха или Кашкадамов. Только определенно кто-то спросил: «А не могло здесь быть изнасилования?» И кто-то ответил: «Какое может быть изнасилование? Ерунда».
— Это я сказал, — прервал меня Толя. — Ну и что?
— А ничего. Сейчас, я думаю., по этому делу следствие начнется. И надо знать, чего говорить.
— Кому говорить?
— Может, мне, а может, вам? Говорят, что эксгумация дает превосходные результаты. Здесь, при вечной мерзлоте, труп сохраняет свою первозданность. Я не специалист в этом вопросе, но что-то мне кажется здесь очень подозрительным. Я в ту ночь был на вокзале, покупал в буфете папиросы и видел там кое-кого. Кстати, как хоронят после вскрытия? Как Морозову хоронили?
— А что тебя это так интересует? — спросил Толя.
— Есть причина, — ответил я, пристально впиваясь взглядом в Геру, — Это не военная тайна, но все же тайна. Могу я иметь тайны? У вас есть тайны? Вот Гера ходит к нам в школу. Не скажет же он нам, для чего он ходит.
— Скажу, — ответил неожиданно Гера. — Нелады в школе. Языки пораспускали. Есть, прямо скажу, вредные элементы.
— Кто же это? — спросил я, Гера улыбнулся.
— А я знаю, чего ты улыбаешься. Могу сказать, что вреднее, чем ты, я не знаю элемента. Тебя на пушечный выстрел нельзя подпускать к школе.
— Тебя тоже, — ответил Гера. — Я бы своих детей такому учителю не отдал бы. Поверь мне, не отдал бы.
— Ну вот что братцы, прекратите.
— Ты прав, — сказал Гера. — Я, собственно, пошел… Он действительно быстро оделся и вышел.
Толя проводил меня до крыльца. Я шел по морозному снегу. И снег скрипел, и луна порхала, как большая птица, то в темное, то в светлое небище.
Когда я подходил к своему' Дому, из соседнего подъезда вышли два человека и, не сказав ни слова, двинулись в мою сторону. Я хотел было им даже уступить дорожку, а сам еще и подумал: «Что же им, места мало, что они прямо, на меня идут?» А тот, кто повыше был, что есть силы ударил меня неожиданно по лицу. Я схватился руками за голову, старался укрыть глаза воротником и рукавичками. Удары сыпались такие резкие и такие сильные. Я, как ни силился крикнуть, не мог, потому что сбивалось дыхание и звука не получалось.
— За что?! — все же прохрипел я.
— Сам знаешь! — ответил один из них и ударил меня чем-то тяжёлым по голове.
Падая, я отчетливо видел, как оба побежали в сторону вокзала. Я был в странном состоянии. Вроде бы и не потерял сознание, а не мог от снега оторвать голову.
А потом я оказался дома. Мама видела, как двое людей в полушубках выбежали и накинулись на человека. Она выбежала на улицу и узнала в лежащем на снегу своего сына, то есть меня. Как было установлено на следующий день, мне было нанесено несколько ударов тяжелым предметом. Мама. плакала. А я решил никому не рассказывать о случившемся. Я все время думал над словами: «Сам знаешь!» Не давала мне покоя мама. Она с утра до вечера доказывала, что не случайно меня побили, это за то, что я всюду лезу. Я всегда замечал, как меняются от горя лица людей. А если горе смешано с ненавистью да еще со злобностью, тогда лицо становится уродливым, вопиюще некрасивым. У мамы это обращение было особенно ярким. Казалось, что холод ее взгляда идет от каких-то неведомых пещерных глубин, что она в минуты своего гнева может и оскорбить последними словами и убить. Помню, меня совершенно поразили и сбили с толку ее гневные слова, которые я услышал бог весть когда и которые однажды только сорвались с ее уст. Она сказала: «Господи, зачем я его родила? Бросила бы и этого в уборную…»
Я смотрю на маму с нескрываемой злобой. Во мне все клокочет и протестует против нее. Я никогда ей не смогу простить этих слов. Всякий раз, когда из мамы лез пещерный человек, мне вспоминались эти ее отвратительные слова.
Теперь я лежал, избитый и приниженный, и она бросала ненавидящие взгляды в мою сторону:
— Так тебе и надо.
— Замолчи, — шептал я, но она не унималась: поток самых страшных ругательств заполнял комнату. Она бесилась, пока не уставала. А когда уставала, начинались причитания, и раздавались крики за дверью:
— Опять, сволочь, над матерью издеваешься?
Я мечтал о прекрасных и добрых матерях. Мечтал о своих детях, о своей семье — и тогда всплывал в моей воспаленной голове образ Ларисы Морозовой, ее нежное лицо, прекрасные глаза, тонкие руки с голубыми прожилками. Я видел себя в окружении моих детей. Вспыхивала подлинная любовь к будущему. И эту любовь я торопился передать своим ученикам. Они были для меня и утешением, и надеждой, и радостью. В них я черпал то, чего недобрал в детстве. В них плескалось то счастье, какого недоставало мне. Я набрасывался на книжки, чтобы высечь из них те искры человеческой любви, какие так нужны и мне и детям.
Завтра я расскажу им о Толстом. Нет, если уж были в детстве ребенка беды, то они непременно дадут о себе знать во взрослой его жизни. Детские слезы — это источники будущего горя и отдельных людей, и всего человечества. Эти источники нередко оборачиваются потом и реками крови. Единственным условием настоящего воспитания является атмосфера любви, атмосфера, в которой личность всегда цель и никогда средство! Я об этом расскажу детям завтра. А сегодня я, помимо своей воли, сравниваю свое детство и детство Толстого, мои страдания и страдания Николеньки Иртеньева. Николенька не сразу стал знаменитым графом Толстым. Он познал и горе, и любовь. Ему подарена была эта великая любовь к человеку всем укладом воспитания. «Дети, а теперь в классы», — говорит домашний учитель Карл Иванович. Здесь же, рядом со спальней, классы, где будут учить его, Николеньку Иртеньева, будущего графа Толстого, всем премудростям наук, ибо маменька упросила отца: «Что угодно, но ради бога ни в какие учебные заведения не надо отдавать детей». И детям дают всестороннее образование и воспитание дома: «А, теперь игры., а теперь играем в четыре руки, а теперь разучиваем мазурку», — и горести Николеньки: сбился с такта на мазурке — позор! Ужас! Как перенести это горе!!! Я размышляю над горестями Николеньки. Как же далеки они от моих бывших невзгод. И другой факт: не то экономка, не то горничная Наталья Саввишна наказала по совету барыни десятилетнего Николеньку, ткнула его мордочкой в испачканную им скатерть: «Как она посмела меня, графа Иртеньева! Как посмела своими холопскими руками прикоснуться ко мне,…» Я нащупываю тумаки- на своей голове и неожиданно вспоминаю Аввакума: вспоминаю, как его дубасили кольями, стегали плетьми, морили жаждой, холодом, голодом, как измывались над ним, как он рычал на всех, кто его обидел, — и я чувствую, что его социальная душа ближе мне, ближе, чем душа Николая Иртеньева, будущего графа Толстого. Я смотрю на свои деревянные полочки, сам сбил, высокие, но не до потолка, обязательно, если удастся, наращу до самого потолка, что-. бы как у Тарабрина было. Смотрю я на полочки и вижу репродукцию Рафаэля. Сикстинская мадонна с младенцем плавно ступает своими крепкими ногами. Удивительно: у Толстого и у Достоевского висело изображение мадонны. Должно быть, отличные мастера копировали. И каждый день Толстой и Достоевский начинали свой рабочий день с того, что встречались с добрым, мучительно-прекрасным взглядом мадонны. И, наверное, светлели лица русских титанов.