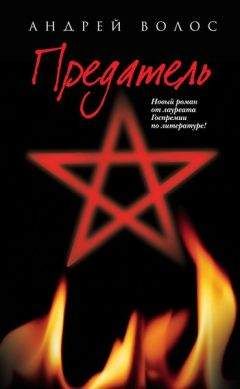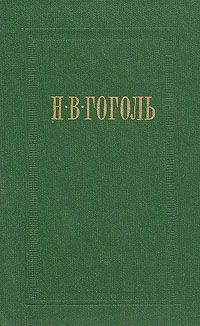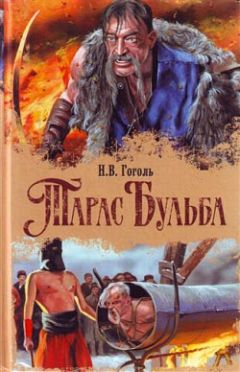Размышляя, он немигающе и невидяще смотрел перед собой. На столе возле кружки лежала папиросная пачка. Он ни кружки не видел, ни папирос; только чувствовал, додумывая, как что-то сгущается в мозгу, наливаясь неприятной тяжестью…
И вдруг чья-то рука сунулась в круг его мыслей, окаменевающих вокруг папирос и кружки, и схватила пачку, мгновенно и грубо нарушив всю конструкцию; это простое движение оказалось неожиданно сокрушительным: сердце сжалось от неожиданности, и весь он содрогнулся — как будто лопнул канат или сорвалась струна.
— Да хорош! Свои надо иметь!..
Вскочил, чуть не повалив стул, нелепо оглянулся, приходя в себя; отшвырнул пачку, прошагал к дверям…
О бронежилетах когда-то давно, чуть ли не в семьдесят девятом, рассказывал Бронникову Мишка Пепловский. Откуда он сам о них сведения почерпнул — неизвестно, но только сидели они в ресторане ЦДЛ, допивали да покуривали. Кажется, в тот самый день, когда появилось правительственное сообщение. Новость мусолили повсюду с самого утра, Бронникову все это уже надоело, а Мишка никак не мог успокоиться, и вот теперь толковал за бронежилет: штука-де страшно надежная, держит выстрел в упор.
— Ну уж прямо в упор! — без азарта усомнился Бронников.
— С пяти метров — точно! — отрубил Пепловский. — Этих ребят, знаешь, тоже не голячком кидают. Не прошибешь! Давай. За мир во всем мире.
По ногам сифонило, на улице морозило, сыпал сухой снег, а тот, что уже упал, лежал сизыми пластами на карнизах. Запьяневший Пепловский бубнил о чем-то военно-героическом, и Бронников под аккомпанемент его россказней лениво пытался представить, как же все это бывает на самом деле.
В тех краях теплее…
Он попытался вообразить, как мглистой ночью грохнули траки — грохнули и заскребли во визгливому базальту кривошеих, отвратительно скользких дорог. Представил, как поползли колонны, похожие на гремучих фосфорных червей. Эхо их суставчатых содроганий падало с серпантинов, гуляло от обрыва к обрыву, и взъерошенные лисы-корсаки, проваливаясь в снег по брюхо и молотя его саднящими лапами, скачками неслись куда-нибудь в дальний сай, долго потом, улепетнув уже в глухие, от века безлюдные верховья, прижимали уши и опасливо помаргивали, уставившись из-под куста в шелестящую тьму ночного снегопада и прислушиваясь к дальнему гулу.
Наверху тоже гудело, накатывало волнами. Очевидно, что-то чрезвычайно громоздкое и тяжелое с усилием перемещалось там, в мути беспросветных чернот и туманов, но не было видно в облаках ни блика, ни луча, ни отсвета багрового бортового огня. В салонах вибрировали металлические скамьи, горели неяркие сдержанные лампы. Свет их позволял дремать, и в полусне множество разных картин и воспоминаний слеталось к людям, по-извозчичьи сутуло сидящим на этих скамьях. Гул тек все дальше и дальше к югу — туда, за вершины невидимых гор, за путаницу хребтов, в области, лежащие далеко за пределами обыденного воображения и существующие более на картах, нежели в действительности. Когда они, эти области, постепенно приближаясь, оказывались наконец прямо под рубчатыми подошвами ботинок, под дюралевым полом, и всякая вертикаль, опущенная от любого из сидящих на вибрирующей скамье, должна была неминуемо упереться в их пределы, лампы вспыхивали ярче, распахивался люк и чужая промозглая ночь принималась в нем полоскать и биться, опасно заплескивая порог. Все встряхивались, ежились, начиналось побрякивание пряжечек, проверяемых напоследок нервничающими пальцами. Ноги на рифленом полу подбирались, словно кошачьи лапы, пружинили мыски. Рев и свист ломились в люк, норовя слоистыми пальцами порвать его овальную ротовину. И вот случалось что-то неуловимое — рявкал ревун, время останавливалось, перечеркнутое взмахом резкой ладони, и тогда люди начинали медленно падать в черноту чужого ветра, беззвучно ахая и плавно пропадая в скользящих мимо сиреневых предрассветных вихрях; они ступали в провал друг за другом, и ночь подхватывала их, унося на ледяных крыльях; они ложились в стеклистые струи и в абсолютном безмолвии напряженных донельзя нервов крутились в них, судорожно прижимая металл к теплому черепашьему панцирю бронежилета; время включалось, и тогда они рвали кольцо…
Впрочем, может быть, теперь и колец-то никаких нет. Может быть, теперь парашюты сами раскрываются. Так или иначе, он легко мог представить себе косые пунктиры десанта, гуляющие по обрывчатому небу.
Бронников положил погасшую папиросу на край полной пепельницы.
— А если в живот? — спросил он.
— Конечно, если в живот, — сказал Пепловский, глубоко затягиваясь и щурясь. — Нет, конечно, если снизу в живот… Радости мало.
— То-то и оно, — кивнул Бронников. — Какая уж радость…
Крови Бронников не терпел с детства — то есть всегда, сколько себя помнил. Даже минутная процедура взятия крови из пальца приводила если не к обмороку, то к самому его порогу, к мутной белой кисее перед глазами, в которой предметы и звуки становились плоскими, как бумага, и легкая тошнота, мешаясь с потом, холодила мир. Дурь накатывала, как только он входил в амбулаторный кабинет и протягивал руку, стараясь не смотреть в ту сторону. Он и так знал — там стеклышки, трубочки; кое-какие уже полны ею: темно-бордовые, а от страха кажется, что ослепительно красны. Протягивал руку, ждал, когда ромбовидная стальная игла в жесткой руке медсестры куснет острием: плоть хрустнет, прорываясь (да, хрустнет! — для тех, кто слышит), а потом выпустит рубиновую каплю. А если капля не выступит (так оно обычно и бывало, потому что в нем вся кровь застывала и пряталась в самых дальних углах ослабшего тела), ее станут выжимать из пальца, как выжимают остатки пасты или клея из мертвого тюбика… Стальное острие рвало микроскопический участок кожи, и он сразу оказывался на самом пороге, а то и переступал его и потом, приходя в себя на кушетке, встречал розовые лица медсестер, выплывавшие к нему из голубого облака нашатыря. С годами кое-как научился с собой бороться: смешно, в самом деле, здоровый мужик…
Ах эти рубиновые капли!
Кровь была несомненно связана с жизнью. Вид уходящей, растекающейся по ладони крови был видом уходящей жизни, и душа справедливо не поддавалась на беспомощные увещевания разума, что, дескать, для медицинского анализа ее, крови, нужно всего несколько капель и что жизни это повредить не может. Нет, душа мертвела, закатывалась, норовила ускользнуть куда-то во мрак небытия. Душа знала свое: раз выбежав, кровь — такая яркая, такая страшная, такая быстрая! — уже не сможет вернуться в дом, в тело, под кожу, где переливаются и струятся целые моря ее, целые океаны — пять литров, как говорят… Душа упрямо твердила: видишь, уходит кровь! — а вместе с ней и жизнь.
А потом как-то раз в гостях, покойно усевшись в кресло и в ожидании угощения листая попавшийся под руку охотничий журнал, наткнулся на одну крайне простую и совершенную формулировку: метательный снаряд (пуля, картечь, дробь) предназначен для того, чтобы нарушить целостность основных артерий и вен выбранного охотником животного. Далее холодно трактовались вопросы, касавшиеся того, как быстро при известной удачливости попадания упомянутое нарушение целостности артерий приведет к ослаблению и гибели объекта охоты.
Вот оно! — вскрикнула душа. Вот оно, вот! Кровь выливают на землю — и вместе с ней уходит жизнь! В животных стреляют не для того, чтобы пуля убила их, нет; как их убить, если они полны крови?! — пока полны крови, они бессмертны!.. В животных стреляют, чтобы в их телах образовались дырки, необходимые для истечения крови, — да, да, об этом свидетельствовал авторитетный журнал, подтверждая свои слова диаграммами и иллюстрациями! Да, да! — и когда вся кровь вытечет, они умрут сами… Вот оно, вот!.. — содрогалась душа, пораженная холодным механицизмом описания этого процесса.
От животных легко было перейти к человеку, ведь и в человека, должно быть, стреляют с той же целью: чтобы с помощью метательного снаряда нарушить целостность артерий и вен. Когда в его тело попадает пуля, кровь брызжет и течет по чему ни попадя — по траве, по асфальту, по земле. Людей необязательно убивать: когда выльется вся кровь, они, подобно животным, умрут сами.
Стало быть, если в него попадет пуля — чикнет под самую кромку бронежилета, — кровь брызнет и польется.
Бронников невольно поежился. Он легко мог вообразить, как маленький снарядик, вращаясь и юля, подлетает все ближе и ближе, и вот наконец касается одежды. Он мал, да удал — жмет и давит, и одежда сначала проминается, а потом начинает рваться под его осиным острием; мягкий живот успевает немного вдавиться, а потом кожа не выдерживает и тоже начинает рваться все шире и шире. Снарядик ввинчивается в плоть — в тело, в мясо, — и первая кровь колечком бисерных капель выступает вокруг. А он все крутит и лезет глубже, и прорывает мышцу; и в этой картине всего ужаснее ее тупая необратимость — ведь это вылить кровь легко, а наполнить жилы кровью невозможно!.. А снарядик все прет и вот, намотав на себя какие-то красные клочья, последним усилием пробивает крестец, и размолотая кость, похожая на куски рафинада, мешается с пузырчатой пеной…