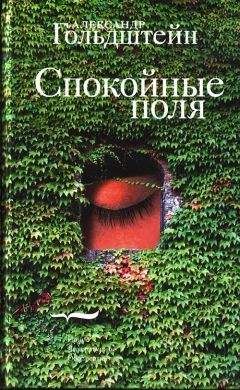Но не таков путь чудовища. Отрезанный от «других», монстр переходит в религию солипсического нарциссизма и блюдет ей верность до гроба. Великолепное следствие отрывается от печальных причин, толкнувших урода к этой конфессии, связь между ними разорвана. Сладострастные инородные образы враждебны его чистоте, и всю мощь сознания и поврежденного разума выродок обрушивает на свое тело (то есть на свое «я»), чтобы прожить, прочувствовать и обоготворить в нем каждую клеточку и молекулу. Ничто, кроме смерти, не затемняет этой всепожирающей радости, которая служит уроду наградою за мытарства. Обольщения развязной имагинации, уводящие даже великого мастурбатора в сторону иной, чем он сам, красоты, бессильны против центростремительного углубления монстра, реализующего девиз телесного самопознания. Мастурбатор же так и не выберется к себе из хоровода вызванных им милых теней, без которых немыслимо его безопасное удовольствие. Да, безопасное, потому что онанисту смерть не грозит, разве лишь ждет его некоторая истома в членах. А Нарциссу смерть предначертана. И выродок, ставший Нарциссом, с нею согласен и не испуган, ибо это ничтожная плата за солипсические восторги, единственную усладу его нищей жизни. Однако Мамлеев безжалостный автор. Герметичные сознание и телесность как будто должны обладать хотя бы одной, но непререкаемо верной опорой в фантомной псевдореальности: опорой самозаконного «я» — духа и тела, воспринятых в абсолютном модусе их бытия. Без этого необходимого условия все рухнет и прекратится. И тогда автор заботливо уготавливает своим персонажам фирменный кошмар, сражающий наповал всех уродов: им кажется, что их «я» представляет собой чей-то подвох и обман. Конец переживаниям и надеждам…
Ситуация горше, мрачней, чем у Беккета, героям которого не позавидуешь, они тоже все потеряли. Позвольте, однако: почему это все? А сознание и речь? Этого права их покуда никто не лишал, тут они полные господа, и хотя выборматывающее их лепетание обстругано рубанком и отполировано наждаком, а сознание («я») — прибегнем к классической философской метафоре, испохабленной шакалами пера вроде меня, — периодически вымывается, как лицо, начертанное на прибрежном песке, все равно: этой двухбашенной крепости они не сдадут никому, никогда. Им есть что терять. Вот этот шелест, тихие волны, шлифующие гальку брюзгливого проговаривания, которую ни один Демосфен не отважится заложить себе за щеку. И это обманчивое речевое пораженчество с насмешкой над патетикой несвершения, над этосом неосуществимости повествовательного языка, и распознавание в невозможности речи очередной риторической увертки, созидающей ораторский комфорт на языковом пепелище. Демосфеновская пластика говорящего организма контрабандою вносится в развоплощенность телесных обрубков. Произнесение слов как последнее свидетельство анонимной жизни, но в иных доказательствах своего бытия эта жизнь не нуждается. Сознание отдает себя слову, и оно, повторяясь, очерчивает слабый телесный контур, заполняемый речью. Которая очень похожа на рвоту и дефекацию, ведь все это выделения: экскременты или синтагмы. Что с того? Речь продолжает звучать, сознание — сознавать, смерть недействительна. Ее приход ничего не меняет.
Чтобы родить свою гору, Беккет тихою мышкой выполз из джойсовского рукава, отряхнув с себя крошки восхищенного секретарства. Ученичество и привязанность к сыру отпечатались в ранних новеллах («Он потер сыр — на нем выступили слезы. Это уже кое-что. Наклонился, понюхал. Слабый аромат гнили. Что проку? Не нужен ему аромат, он не какой-то жалкий гурман, ему нужна крепкая вонь. Что ему нужно, это добрый, зеленый, вонючий кусок горгонцольского сыра, и, ей Богу, он его получит»), но он быстро смекнул всеми лапами и хвостом, что бесплатные слезливые ломтики чреваты крупными неприятностями. Отныне с наставником его связывает вежливость отторжения, и о прежней зависимости его прозы от Улиссова плавания возвещает лишь контрастная сухопутная заземленность новой манеры. О Джойсе так, для примера. Памяти Беккета. Он не решился отнять у Моллоя, Мэлона, Безымянного то, что у них оставалось: образ, шепот и голос. А Мамлеев отобрал у своих все до полушки и капли. Или для того убивал, чтобы они потом… Именно для того. Говорил же Илья Бокштейн, когда мы с ним плавились (грешу на него, уж он-то не растекался ни во рту, ни в руках, к зною устойчив, ко всему он устойчив), прислонившись сентябрьским днем — мне легко было, опустошенно, только что снова поперли со службы, но я накопил месяца на три, пока не созреет пособие, — к книжному магазину «Болеславский» в слепой кишке тель-авивского чрева, возле восточного рынка Кармель, а Женя Лейбович, этой знаменитой захиревшей лавки владелец: основана в 38-м, подмандатная Палестина, — скреб свою бороду бывшего моряка, постаревшего хиппи, друга заурядной русской богемы, привыкая к себе после вчерашнего под деревянной совой, эмблемою лавки, рядом с акульей челюстью, вскоре куда-то отклацавшей по винным морям, — говорил же Бокштейн, но прежде о нем пару слов, о поэте и персонаже.
Михаил Гробман, навсегда закаленный андерграундом 60-х, где в том числе общался с Мамлеевым, относится к Илье снисходительно, считая его безвредным городским сумасшедшим себе на уме, с детскими хитростями добывания пряника — слушателя своих бессмысленных стихов и теорий. Иногда Гробман любопытства ради с Бокштейном беседует, натурально, не позволяя тому читать стихи, даже зовет его в гости или пасует перед его редким, но неизбежным приходом, ведь в конце концов Илья свой человек — из искусства, пожилой тель-авивско-московский еврей. Жеманный, но искренний поэт Володя Тарасов («Нарцисс Саронский») видит в Бокштейне безумца, которого дервишские каракули необходимо очистить от песка, засохших насекомых и верблюжьего кала, и тогда они вспорхнут к свету бабочками эзотерических песнопений. Не мое дело судить, кто из них прав, — встретимся через 50 лет. К тому же, по-моему, говорят они об одном. Аркадий Ровнер, шаржированно изобразивший Илью в романе «Калалацы» («я ужасно себя вел тогда в библиотеке, хуже, чем он описал»), поместил его тексты в «Антологии Гнозиса», где стихотворения навряд ли могли себя чувствовать нищими на пиру. Но я вообще заранее солидарен с любой поэтической метафизикой, написанной русскими буквами, и я не знаю, чем Бокштейнов, набранный стихами вариант хуже какой-нибудь «Розы мира», которая, как зимняя одежда в шкафу, пересыпана нафталином и апельсинными корками теософско-гималайской белиберды в обрамлении видений несчастного арестанта. От Индии духа можно вешать топор, а мне мил и Андреев, — красивая тюремная литература с тоскою о любящем женском теле, южном городском сладострастии, неведомых землях и эдакой теплой придорожной церквушке. Бокштейн с огромной готовностью, упрашивать не придется, объяснит, что такое мимфы, сюрды, псички и псюрды, не говоря уже о более изысканных яхронтах и пларизмах, а когда доберется до собственно экстремической поэзии, вас наверняка можно будет выносить как святых; Даниил же Андреев не оставил потомков в неведении относительно структуры Шаданакара и половой жизни игв, высокоинтеллектуальных демонических существ, обитающих в изнанке миров, так что авторы стоят друг друга, может быть, дорого стоят — я не специалист в этих нежных предметах, как сказал Чарлз Кинбот по поводу девичьих сексуальных аттракций.
И все же есть смысл послушать Илью. Мой вам добрый совет, ежели будете в Тель-Авиве, в этой прелестной Касабланке, как ругательски обозвал весенний холм греховодников, грешников у средиземной воды, мудрейший раввин Штайнзальц. Бокштейн, старый ребенок, юродивый ритор, схолиаст-оборванец, левантийский дервиш-графоман, не осквернивший уст местным наречием, «телептицый горнист» с инвалидною пенсией, утекающей в кассы книготорговцев. Лейбович любит его и следит, чтобы он слишком не тратился. А Бокштейн знай себе декламирует. Он поет. Протяжно вздыхает. Насмешливо квакает. Жалобно вскрикивает, помавая крылами. И немножко возносится, поднимаясь до среднего роста. Пламенеющий даймон, угнездившийся в маленьком сгорбленном теле, уволенном от материи без выходного пособия еды и питья, держит его на воздушной подушке, и Бокштейн парит, потеряв удивленье к тому, что ноги в изношенных башмаках не опираются на убогую почву русского литсобрания. Ветер свищет в его бороденке местечкового прорицателя. Кто нальет ему супу, когда он прочитает все книги? Кто вложит в руку лепешку, арабскую питу евреев? Над всклокоченной седой шевелюрой завиваются безвредные змеи и восходит нимб бескорыстия. Ноздри трепещут. Шепелявые гармонические стенания остаются висеть, как картины. Дрожь восторга от соития с истиной ласково сотрясает его. В светлых глазах плавает плюсквамперфектный ужас и пожизненное недоумение. Не знаю, часто ли он вспоминает Мордовию, пять лет лагерей за публичные чтения возле статуи Маяковского. Он мог бы продать себя в рабство, если бы господин обязался слушать его стихи, а какой еще прок с Ильи в системе работорговли. Ему место в Греции Диогена, но тщеславие не слишком сквозит из прорех Бокштейнова рубища, и общественный его темперамент далек от поэтики эпатирующих наставлений.