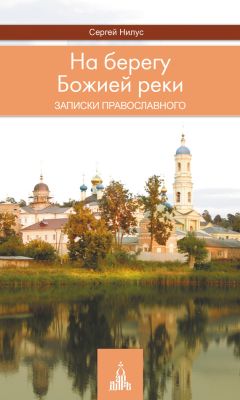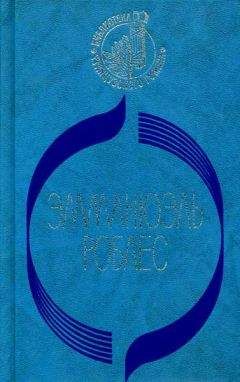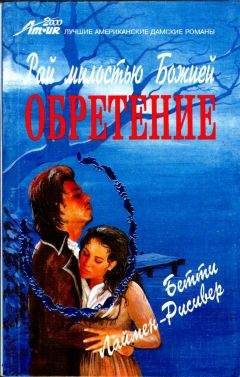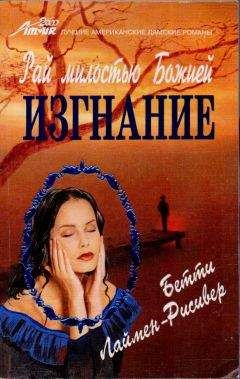Студену зиму унесите,
Теплу весну принесите:
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела!
Заливались ребятишки, словно вешние птахи, а Краснобаевская молодуха, краснощекая Малаша, тетёшкая на руках своего малого Петруху, ворковала голубкой:
Жаворёнки прилетели,
На завалинку, на проталинку…
Жаворёнки прилетели,
На головку малым деткам сели…
Тут Малаша щекотливо взъерошила Петрухины волосенки, и тот на радостях полез ручонкой искать материну титьку. Полюбовался Сила на ядреную молодуху с парнишонкой на руках, и, распахнув полушубок, вдохнул полной грудью влажный, волнующий мартовский ветерок; а уж хмельные предчувствия суетно роились в душе, являли глазам Фису во всей её тревожной, рыжей красе.
…Ближе к вечеру заимский гость уже смущенно жался на лавке, возле стола, где мутно посвечивала среди рыбных пирогов и творожных шанег четверть медовой сыты. Ярко горела трехлинейная керосиновая лампа, и на копотных венцах, по белой печи мельтешили пляшущие тени, бойко стучали в половицы чирки и чоботы.
Охрабрев от сыты, поиграли «в блины»: по кругу настигнет парень деваху, и по заду ей хлебной лопатой; потом затеяли «кузнеца», выковывая из «стариков» молодых, где самая потеха крылась в том, что при всяком нарошечном ударе «кузнеца» по стариковской башке, у деда слетали порты и оставался, горемычный, в одних исподниках. Деда играл простой и безотказный паренек, которого из-за угла пыльным мешком хлопнули… Молодой хохот распирал избяннные венцы, окна звенели и безумно метался в стеколке перепуганный свет керосиновой лампы.
Охмелевший Сила от буйных игрищ и лихих плясок отмахивался… сдиковался в тайге… но исподтишка зарился на Фису, крутящую цветастым подолом, словно лиса-огневка рыжим хвостом. Цепко ухватив за руку, она все же сдернула парня с лавки, силком вытянула в круг, но Сила, потея, краснея, потоптался возле девы, словно медведь круг малинова куста, да и в изнеможении снова привалился к столу, где поджидала медовая чарка. А девка выплясывала, потряхивая красной гривой, и насмешливо зыркала на заимского гостя рысьим глазом. Посидельщики учуяли, что ладится парочка, и как завели поцелуйную игру в Дрёму, так и потянули в середку карагода упиравшегося Силу.
Полно, Дрёма,
Полно, Дрёма,
Полно, Дрёмушка, дремати,
Пора, Дрёма,
Пора, Дрёма,
Пора куну выбирати,
Пора куну выбирати.
Повели карагод с крикливыми припевками:
Гляди, Дрёма,
Гляди, Дрёма,
Гляди, Дрёма, по девицам!
Гляди, Дрёма, по девицам!
Дрёма тут же выискал глазами Фису.
Бери, Дрёма,
Бери, Дрёма,
Бери, Дрёма, кого хочешь,
Бери, Дрёма, кого хочешь!
Дрёма охрабрел, обошел карагод, взял девку за сухую, жаркую ладонь, низко поклонился и ввел в круг. А посидельщицы опять заголосили:
Трепли, Дрёма,
Трепли, Дрёма,
Трепли, Дрёма, по власам,
Трепли, Дрёма, по власам!
Окунул Дрёма ладонь в огнистые девьи кудри, вспыхнул, опалился.
Целуй, Дрёма,
Целуй, Дрёма,
Целуй, Дрёма, по любови,
Целуй, Дрёма, по любови!..
Оробел Дрёма, утупил глаза долу, но тут девка сама впилась ненасытно в его губы, и все ахнули, а Сила уж мутно помнил, что и вышло потом… А потом Фиса с двумя чумачками, припомнив разудалый Васильев вечерок, удумали гадать на женихов подле бани. Чуя себе потеху, парни туда и умыкнулись исподтихаря…
С ворожбой в деревне беда: гадала накануне Рождества Христова Малаша, нынешняя молодуха Краснобаевых, кинула сапог через ворота …не подвернулся под руку легонький чирок… и тем сапогом прямо в будущего тестя Калистрата Краснобаева и угодила. Долго потом отец Малашин винился перед Калистратом, а через год …неисповедимы пути… породнились. А то был случай: пошли девки овцам в темноте ленточки вязать …на Крещение Господне ворожили… а парни, напялив вывернутые шубы, среди овец затаились. Шалый паренек и притиснул девку, когда сунулась ленточку вязать, та с перепуга заревела лихоматом, потом едва отвадились, к старцу в монастырь возили, чтобы изгнал из души испуг.
Вот и нынче… Сняли девки кресты, развязали пояса и, не благословясь, помянув немытика, потянулись впотьмах к бане, где, приотворив дверь и поочередно сунув в проем голый срам, испуганно шептали: «Суженый-ряженый, погладь меня…» Ждали: ежели мохнатой лапой баннушко огладит – фартовый выпадет жених, зажиточный; голой ладонью – голь перекатная; совсем не тронет – до Покрова в девках страдать. Фисиных подружек луканька банный огладил ласково, мохнато, а фискин срам так тиснул голой клешней, что та аж взвизгнула от боли… после чего в банной темени парни заржали, что жеребцы нелегчанные. Порадовали девки беса, сомустившего худобожиих на богопротивное… судьба лишь в руце Божией… а заодно и потешили охальников.
1
Словно жухлый осенний лист в речном улове, закружили парня страсти; не успел глазом сморгнуть, как и окрутился. Бравый соболек угодил в силины плашки, да шибко помят: окулькина девка давно уж прокудила свое девство, одарила им укырского ловкача, а по бабьим слухам и других ублажала, отчего волочилась за ней диковинным последом лихая ославушка. Может, сплетки досужие, пойди разбери. Сила махнул рукой на суды-пересуды кумушек: надкушена репа, да шибко сытна, откупорена брага и жадно отпита, но да и остатки сладки.
После Сорока мученников зачастил Сила в Укыр, непременно заворачивая на веселое шуньковское подворье, где, обнявшись, гадали молодые до третьих петухов, как бы эдак исхитриться да принять венец, чтоб не крадучись, исподтишка, а в законе жить.
Сила уже и без того прижился в невестином доме, и мать, моложавая, опрятная бабенка …прислуживала то в лавке, то в трактире богатого еврея Хаима… на шалости дочкины глядела сквозь пальцы, – видно, столковались промеж себя. Она и на подворье-то являлась под потемки, а то и ночевала в трактире. Вот Анфисе-то и воля вольная – пой, девка, веселись, ни кого не боись. Скота Шуньковы не держали, а коль ни сохи, ни бороны, ни кобылы вороны, то и работушки… избу помыть да обед сгоношить. Веселилась Фиса, липла к Силе распаренным банным листом, и охотник терялся в тревожных загадках, что она, огневка шалая, нашла в нем, огрубелом, задичавшем в тайге, к тому же рябом. Оно верно, охотник добычливый, и здоровьем Бог не обидел, мог на спор быка осадить на колени, ухватив за рога… Может, годы поджимали …давно уж пора козу на торг вести… и боялась в старых девах замшеть, а деревенские ухари, как убедился Сила, хоть и хаживали к Шуньковым на посиделки, но лишь зарились на огнистую плясунью, не своевольничали даже во хмелю, своих заззнобушек пасли. Побаивались окулькину девку: слухи про нее шатались недобрые: мало того что гульлива, так еще и волхвитка, изурочить может, порчу навести – сухотею, ломотею, лихотею, – эвон какой зрак рысий.
Хотя Сила сплеткам не поверил… бабьи языки, что бесово помело… но однажды, когда чаевали втроем за вечерним самоваром, набрался духу и робко вопросил Шуньковых:
— Грешат на вас, будто вы из окулькиной веры.
Фиса озадаченно поглядела на мать.
— Сплетни все, – со вздохом отмахнулась та. – Слышали звон, да не знают, где он… Крещенные мы.
— Крещенныя… – согласился про себя Сила, потому что видел на Фисиной шее золоченный крестик, – но пошто-то в церкву сроду не ходите?..
Услышав его сомнения, мать растолковала, как по писанному:
— Бог не в церкви, не в иконе, не в обряде. Бог – в душе… А то что нас деревенские со зла в окулькину веру вписали, так это потому, что живем не по ихнему. Не нравится, как мы живем… Удумали еще, будто мы колдовки… Ну, да на каждый роток не накинешь платок.
Когда мать спряталась в своем закутке, и молодые остались в горнице наедине, Фиса и придумала, как им принять венец….
Зная, что ни мать, ни отец Силины не дадут благословения, парень тайком от родовы перекрестился в единоверцы, а потом и обвенчался в церкви, что для скрытников было едва ли не страшнее всех кобей, бесовских— принять золотой венец из нечестивых рук попа-никонианина, клятого щепотника. Лучше уж круг ракитова куста окрутиться…
Тем паче, в Укыре поговаривали: мол, катили молодые в бричке, запрягши сивого мерина, возвращались из церкви, от венца, и вдруг вздыбилась улица, и заступил им дорогу пыльный вихрь, где уж, наверняка, ревнивый колдун крутился, – обесившийся Фисин любовник с Лысой горы. Не к добру то, – осудительно качали головами суеверные укырчане.