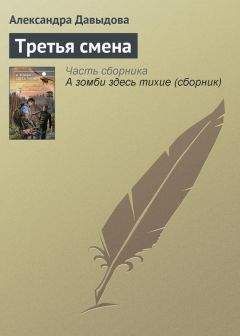Сережа встал, отряхивая руки.
— Доброе утро тебе, Лика. Ставь чай, мы с Ингой к роднику пойдем, вода кончается.
— Доброе и вам. Иван бы сходил, чего суетитесь. Гуляйте.
Она присела на корточки, раскидывая сборчатый подол. Приняла от Инги котелок, уже наполненный водой.
— Туда и погуляем. Ивану нельзя таскать тяжелое. Обойдется.
Они уходили, под ранним еще нежарким солнцем. И Лика понимала — у них все случилось, как надо, этой первой ночью. Отсюда и свет, и мирные лица.
Под сандалетами хрустела сухая трава. Кидались в стороны степные кобылки, распуская веера крыльев. Над головами, в зените, висел крестиком соколок.
— Смотри, заяц! Красивый какой, рыжий! — Инга схватила Горчика за локоть.
Тот кивнул.
— Ага. Тут и лисы ходят. Я три раза видел, к костру приходили, глаза горят, как два фонаря.
— Боялся? — она засмеялась.
— Не. А ты мне скажи, ляля моя. Тебя, пока меня не было, не обижал никто?
— И хвост у него, цветком. На белой попе. Смешной такой. Я думала, зайцы зимой только красивые.
Горчик остановился, отпуская ее руку. Поглядел в сумрачное лицо.
— Так…
— Серенький, ну вот так все хорошо, а ты начинаешь, — у нее задрожали губы, и уже знакомо ему, она прикусила нижнюю, глядя чуть исподлобья. Повернулась, пошла медленно вперед, и по спине было видно, слушает, идет ли он следом. Серега догнал, поддергивая на спине спадающий рюкзак с парой пластиковых канистр, а еще одну Инга несла в руке. Сказал мрачно:
— Эй! Девушка! Слышь, Михайлова!
Она передернула плечами.
— Ми-хай-ло-ва! — раздельно произнес мальчик и, догнав, обхватил ее плечи, — я кому говорю!
— Мне…
— Тогда стой и слушай. Щас воды наберем, и там в кустиках посидим, расскажешь, ясно? И выкинем с головы. На неделю.
Она закрутилась в его руках, чтоб повернуться лицом.
— А ты сумеешь? Выкинуть?
— А ты? Черт, так все плохо, да?
Инга засмеялась. Бросая на траву канистру, привстала на цыпочки. Поцеловала Горчика в нос, потом в каждый глаз отдельно, с тающей нежностью чувствуя, как моргают щекотно ресницы.
— Да пустяки. Серый, правда, пустяки. Могла бы соврать, просто сказала бы — да вообще ничего. Но знаешь ведь, не могу.
У родника маленькая глубокая лужа заросла по краям зеленой осокой, и на ней сидели драгоценные синие и алые стрекозы. Вода стекала в канистру, ударяя в дно звонкой струей. Увязав воду в рюкзак, Горчик похлопал по песчаному пригорку, крытому ажурной тенью.
— Давай. Садись и говори.
Зной усиливался, сидеть в тени было хорошо. Инга сняла вылинявшую кепку и, крутя ее на коленке, медленно рассказала о Роме. Не слишком подробно. О том, что прокрался в ее комнату, не стала говорить, уныло думая — ее правда превращается в постоянные увиливания, и толку от такой правды. Но с другой стороны, хорошо, что она может хотя бы промолчать. О том, например, что этот козел ей приснился. Сережке это точно не понравится.
— Козел, — с чувством сказал Горчик и она вздрогнула.
Прижимаясь к его твердому плечу, сказала поспешно, желая, чтоб не стал задавать вопросов:
— Да ерунда это. Думаешь, я такая вся слабенькая? Пусть только попробует еще раз подойти.
— Я его убью. Если хоть что сделает тебе. Убью.
Инга испуганно посмотрела на закаменевший профиль и сжатые губы.
— Сереж, помнишь, ты мне обещал говорить только правду? Не смей таких вещей больше. Ты понял? Нельзя.
Уговаривая и сердясь, подумала с еще большим испугом, а и сама хотела. Лежала ночью, не спала. Думала о том, что Ромалэ можно заманить в подводную пещеру. И удрать, выбив из расщелины деревянные ступени. Он останется там. И думая, никакой жалости не испытала к лощеному наглому Рому. Потому испугалась себя. А теперь, глядя на затвердевшие черты Горчика, поняла, что может сделать он. Повторила, почти со слезами:
— Нельзя! И ты обещал мне. Что у нас будет все хорошо-хорошо. Хотя бы сейчас!
Горчик повернул к ней узкое лицо, смягченное улыбкой.
— Будет, Михайлова. Цаца моя, и сейчас будет. И всегда будет.
Поднял руки ладонями к ней:
— Только не проси, чтоб я клялся!
— Ты сам захотел тогда! А теперь я значит виновата? Дурак ты…
Но он, перебивая, заорал во все горло:
— Дура ты, Михайлова!
И хохоча, они повалились, съезжая вместе с маленькой лавиной песка.
Вечером, совершенно уставшие от солнца и сверкающей воды, снова сидели молча, намертво сцепившись руками, смотрели, как прыгает и трещит огонь. Лика молчала, разглядывая их, улыбалась тихонько. Иван, ставя в песок пустую тарелку с выщербленным краем, сказал густо в ответ на тихое молчание:
— Это все их сила, Лика. Мы старики, я вот болею. Поизносились. А эти двое, — кивнул в сторону одновременно повернутых к нему тихих лиц с глубокими глазами, — они как источник живой. С нами делятся. Потому старики так любят сватать, да с детьми возиться.
— Экие мы вампиры, — вздохнула Лика.
— Нет. Так мир устроен. Скажешь, плохо?
Вместо жены ему ответила Инга, прижимаясь плечом к своему мальчику.
— Хорошо.
Горчик кивнул, соглашаясь. И вдруг спросил:
— Иван. У тебя в инструментах долото есть? Нет, зубило. Ну, такое, чтоб по нему молотком.
— Я погляжу. Там в доме полный ящик всякого ржавья. А тебе для чего?
Серега помолчал. Мотнул головой, рукой отбросил со лба светлые волосы.
— Ну… потом, ладно? Я сперва, в общем, после скажу.
Инга сонно подумала, вот, что-то затеял. Как хорошо, что это будет утром. А сейчас они уйдут в сарайку. Это самая лучшая на земле сарайка. Во всем мире. Это райка-сарайка.
— Бери свою лялю, — сказал Иван, — еле сидит уже, на песок сползает, укладывай спать.
Они шли друг за другом — идти было далеко, берегли силы. Узкая полоса влажного убитого мелкими волнами песка твердо ударяла по пяткам. И ветер шумел прибоем в левое ухо. Инга шла первой, оглядывалась на Сережин пристальный взгляд и, смеясь, поводила плечами. С непрестанным и уже привычным удивлением смотрела на себя его глазами — смуглая крепкая спина с полоской синего купальника, лопатки, синие трусики ниже талии, и мерно работающие ноги. Было немного неловко идти так, и пару раз споткнувшись, она остановилась, хватая его за локоть и толкая вперед:
— Теперь я буду смотреть.
Обходя, Горчик на ходу обнял ее, остановился целовать, но Инга, по-жеребячьи встряхивая гривкой, замотала головой:
— Отстань, сам сказал, далеко идти. Скоро совсем жарко.
Он громко вздохнул, отпуская горячие локти. Пошел, расплескивая мелкую стеклянную воду, с удовольствием постукивая пятками. А Инга, спотыкаясь, не отводила глаз, шла следом за узкой гибкой спиной, ниже поясницы отчеркнутой трусами с растянутой резинкой. Горчик поддернул их, перекашивая на бедрах, и оглянулся. Скалясь, спустил пониже, завилял задом, не переставая мерно шагать. Радуясь, слушал, как она хохочет, и театрально ежился, когда ногой поддавала мелкую воду, брызгая на его ноги.
Идя следом, она думала — всю жизнь могу так. Смотреть, как работают мышцы, как изгибается он в поясе, мелькают мокрые ступни, разбрызгивая светлые капли. И волосы то и дело ветер сносит в сторону, а тонкая сильная рука привычным жестом подхватывает их, закидывая со лба.
«Беленький совсем. И коричневый».
Он резко остановился, бросая на песок сумку. Повернулся, ловя ее руками, и потащил в воду.
— Привал. Окунемся и посидим.
— Окунемся, — согласилась она, валясь в прозрачное, праздничное, — и полежим. На рубашках.
Так и сделали. Надев кепки, устроились посреди совершено пустого пляжа, длинного, как взлетная полоса. Лежа головой на ингиных коленях, Горчик сказал, глядя вверх, на ее подбородок и грудь, охваченную мокрым трикотажем.
— Сняла бы. Для здоровья. А то сырое ж все. Только на солнце долго не жарь, вредно.
Инга сразу же развязала мокрый узел и, проводя хвостиком по его лицу, удивилась весело:
— Откуда знаешь? Такое вот, женское.
— Та. Послушала бы с первого класса, мать на веранде — диеты, гимнастики, кремы всякие. Калории там. Я теперь ученый, хоть куда. И трусы.
— Да? А ты?
— И я… Только попу не спали, будешь у меня как гамадрил, с красной жопкой.
— Про гамадрила тоже наслушался из журналов?
— Нет, — скромно ответил мальчик, вытягивая ноги, и стаскивая трусы, ворочаясь головой на ее коленях, — это я сам.
— Да ты поэт!
Он сел, давая ей тоже раздеться. Поерзал на расстеленной рубашке, сел по-турецки, сложив руки между колен. И она, став серьезной, но блестя глазами, села так же, свесив ладошки между своих. И замолчали.
В первый раз днем. Посреди огромного светлого мира, полного радостного ветра, шумной мерной воды, и яркого, уже почти белого солнца. Сидели, будто застыв, не делая ничего, только смотрели. Короткая щетка травы, отмечая край пляжа, уходила почти к горизонту, там, в дымке, задирая его плавно в линию пологих холмов. Песок, яркий, блестяще-желтый, длился за спину мальчика, и где-то там, за плавным поворотом остался Иван над удочками, а еще дальше — хутор, из одного беленого дома с пристройками-чуланчиками и покосившегося рыбацкого сарайчика. Там пела Лика.