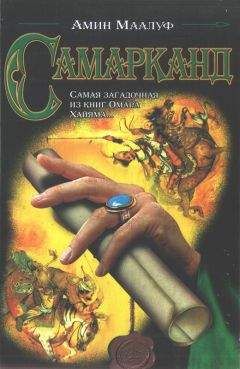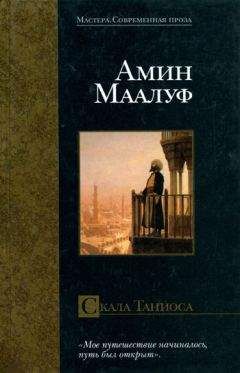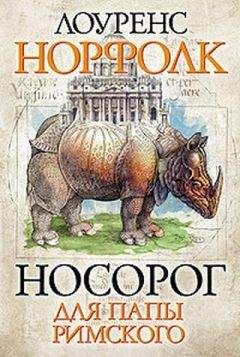Поверит ли мне кто-нибудь, если я скажу, что в этом году я был готов расстаться с жизнью ради своей бороды? И не только ради нее. Все смешалось в моем сознании, как в сознании Папы: бороды писцов, обнаженная грудь на своде Сикстинской часовни, статуя Моисея с испепеляющим взглядом и дрожащими губами.
Сам того не желая, я стал оплотом и символом ожесточенного сопротивления Адриану. Видя, как я на ходу гордо поглаживаю густую растительность на своем подбородке, самые гладковыбритые из римлян провожали меня восхищенными взглядами. Все памфлеты, направленные против Папы, поступали сперва ко мне, а уж затем подсовывались под двери именитых горожан. Иные тексты представляли собой сплошной перечень оскорблений: «варвар, скупердяй, свинья» и даже хуже. Другие взывали к гордости римлян: «Никогда более не-итальянцу не сидеть на троне Петра!» Я перестал заниматься учебой, преподаванием и целиком отдался борьбе. Правда, получая за это немалое вознаграждение. Кардинал Джулио снабжал меня значительными суммами денег вместе с ободряющими посланиями и обещал показать, какой может быть его благодарность в случае перемены фортуны.
Я с нетерпением ожидал этой поры, поскольку мое положение в Риме становилось все труднее. Один знакомый священник, автор пламенного памфлета, был заключен под стражу через два часа после визита ко мне. Другому стали досаждать испанские монахи. Я чувствовал, что нахожусь под неусыпным наблюдением, и перестал бывать где-либо, кроме лавок, в которые выходил за продуктами. Каждую ночь мне казалось, что это моя последняя ночь, проведенная с Маддаленой. И от этого я еще крепче сжимал ее в своих объятиях.
ГОД СОЛИМАНА
929 Хиджры (20 ноября 1522 — 9 ноября 1523)
В этом году падишах снискал мою благосклонность. Разумеется он так никогда об этом и не узнал, но разве это важно? Во мне самом разгорелась распря, во мне она и должна была разрешиться.
Мне пришлось бежать из могучей исламской империи ради спасения ребенка от кровавой мести, и в христианском Риме обрел я халифа, в тени которого так хотел бы жить в Багдаде или Кордове. Рассудок мой упивался этим парадоксом, чего не скажешь о моей совести — она отнюдь не была спокойной. Неужто миновало время, когда я мог гордиться своими единоверцами не только ради того, чтоб потешить свое жалкое тщеславие?
Затем появился Адриан. А вслед за ним Солиман. По возвращении из Туниса меня навестил Аббад, верный своему обещанию. Не успел он рта открыть, как в его глазах я уже прочел соболезнование. Он словно колебался перед тем, как нанести мне удар, пришлось дружески подбодрить его:
— Нельзя упрекать вестника за то, что находится в руках Провидения. Если ты годами был вдали от своей семьи, добрых новостей ждать не приходится. Даже скажи ты, что Нур родила, и то это не будет доброй вестью.
Понимая, что его миссия станет еще труднее, если он позволит мне и дальше шутить подобным образом, он заговорил:
— Жена твоя тебя не дождалась. Она лишь несколько месяцев провела в твоем доме в Тунисе.
Мои ладони покрылись испариной.
— Она уехала, оставив тебе вот это.
И протянул мне письмо. Я распечатал его. Оно было написано каллиграфическим почерком, верно, Нур обратилась к услугам общественного писца. Сами слова исходили несомненно от нее:
Если бы речь шла лишь о моем счастье, я бы ждала тебя годы, пусть мои волосы и поседели бы одинокими ночами. Но я живу ради сына, ради его предназначения, которому однажды суждено осуществиться, если позволит Господь. Тогда мы позовем тебя к себе, чтобы ты разделил с нами почести, как делил трудности. А пока я направилась в Персию, где, за неимением друзей, Баязид будет окружен врагами тех, кто его преследует.
Оставляю тебе Хайат. Я хранила твою дочь, как ты хранил мою тайну, настало время, чтобы каждый взял то, что ему принадлежит. Кто-то скажет, что я недостойная мать, но ты-то знаешь, что я поступаю так ради ее же блага, чтобы не подвергать опасностям, которые поджидают меня и ее брата. Оставляю ее в качестве подарка тебе, когда ты вернешься, она еще больше будет похожа на меня и напомнит тебе о белокурой принцессе, которую ты любил и которая любила тебя. И не перестанет любить тебя в своем новом изгнании.
Ждет ли меня смерть или слава, не позволяй моему образу потускнеть в твоем сердце!
При виде первой слезы, скатившейся по моей щеке, Аббад отошел к окну, делая вид, что рассматривает что-то в саду. Слезы застилали мне глаза, я опустился прямо на пол. Словно Нур стояла передо мной, я бросил ей гневное:
— К чему мечтать о дворце, если можно быть счастливым в хижине у подножия пирамид!
Несколько минут спустя Аббад присел рядом со мной.
— Твоя мать и твои дочери пребывают в добром здравии. Харун каждый месяц посылает им деньги и съестное.
Повздыхав, я протянул ему письмо. Он не хотел его читать, но я проявил настойчивость. То ли мне хотелось, чтобы он не осуждал Нур, то ли из себялюбия я стремился избежать сострадания с его стороны к себе, как мужу, оставленному женой, уставшей от ожидания. А может, была потребность хоть с кем-то поделиться тайной, которую отныне предстояло носить в себе.
Я поведал ему историю моей Черкешенки, начав со случайной встречи у торговца старинными вещами.
— Теперь мне понятно, отчего ты так испугался, когда офицер взял Баязида на руки в порту Александрии.
Я засмеялся. Довольный тем, что удалось развеселить меня, Аббад продолжил:
— Я все не мог взять в толк, почему бы уроженцу Гранады так бояться турок, которые одни лишь в силах вернуть ему однажды его родной город.
— Маддалене тоже невдомек. По ней, так все андалузцы, невзирая на происхождение, должны радоваться каждой победе турецкой армии. Мое равнодушие ее удивляет.
— Откроешься ли ты ей теперь?
Аббад говорил вполголоса. Так же отвечал и я.
— Я расскажу ей все, но не сразу. Прежде я не мог сказать ей о существовании Нур.
Я повернулся к другу. Мой голос стал еще тише:
— Заметил ли ты, до какой степени изменились мы с тех пор, как обосновались в этой стране? В Фесе я не стал бы говорить о своих женах даже с самым близким из друзей. А если и стал, то покраснел бы, да еще и вместе со своим тюрбаном.
Аббад рассмеялся, подтвердив мою правоту:
— Я и сам тысячу раз извинялся, прежде чем спросить у соседа, как здоровье его жены, а он, прежде чем ответить, озирался, не слышит ли кто нас, не то пострадает его честь.
Вдоволь насмеявшись, мы замолчали. Затем Аббад начал какую-то фразу, но засмущался и не довел ее до конца.
— Что ты хотел сказать?
— Еще не время.
— Я открыл тебе столько своих секретов, а ты не говоришь и половины того, что думаешь!
— Я хотел сказать, что отныне ты можешь не скрываясь отдавать предпочтение османам, ведь Баязид больше тебе не сын, к тому же твой покровитель в Риме уступил место инквизитору, а в Константинополе Селим Грозный скончался два года назад и теперь там правит Солиман.
В каком-то смысле Аббад был прав. Отныне я был свободен в выборе своих пристрастий и мог разделить надежды Маддалены. Сколько счастья и душевного покоя ждало бы нас в этом полном событиями мире, когда бы можно было провести линию раздела между радостными и горестными побуждениями! Увы, это было не для меня в силу самой моей натуры.
— Знаю я тебя, — не глядя на меня, продолжал Аббад. — Ты не умеешь сполна отдаваться радости. — Он задумался. — Видно, ты просто не любишь сильных мира сего вообще, а султанов в особенности. Когда один из них одерживает победу, ты тут же оказываешься в стане его врагов, а когда какой-то глупец относится к ним с почтением, для тебя это повод презирать их.
И на этот раз Аббад был прав. Видя, что я даже не пытаюсь оправдываться, он набросился на меня:
— Но почему ты настроен против Солимана?
Он говорил со мной с такой трогающей душу наивностью, что я не мог не улыбнуться. В эту минуту в комнату вошла Маддалена. Она услышала вопрос Аббада, и он поспешил перевести его на итальянский, предвидя, что она будет с ним заодно. Так и случилось:
— Почему, черт возьми, ты враждебен Солиману?
Она медленно приблизилась к нам. Мы по-прежнему сидели, привалившись к стене, как школьники, рассказывающие друг другу суру, в которой речь идет о женщинах. Аббад в смущении встал. Я продолжал сидеть, пребывая в задумчивости. Маддалена пустилась восхвалять падишаха:
— С тех пор как он пришел к власти, настал конец кровопролитию, начавшемуся при его отце. Он не резал ни родных, ни двоюродных братьев, ни сыновей. Высланная из Египта знать вернулась домой. Тюрьмы опустели. Константинополь не нарадуется на молодого государя, сравнивая его поступки с действием благодатной росы, Каир забыл о страхе и трауре.