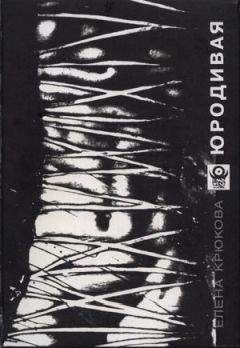И вот Сульфа! Она превратила меня! Она одела меня вновь родной шерстью! Я волчица с лунными зубами и глазами красными как Марс, я царица ночи, я владычица снеговых гольцов, и горе тому, что приблизится ко мне со злом. Я буду выть и петь, сражаться и бороться. Я умею бороться, отец. Клыки мои остры. Сульфа вымажет их черной краской. Вой, отец, вместе со мной! Я люблю тебя! Я навеки останусь здесь, в снегах. Я наследую твое царство. Я буду загрызать коз и овец, если буду голодна, а людей… никогда не трону.
«Тронешь, тронешь», — хриплый голос Сульфы донесся из белого снега, из черного неба. Кровь зашумела в ушах. Я выбиралась, выкарабкивалась невидящими глазами из слепоты и лунной мрети.
Волков и медведей не было у хибары. На снегу четко, иероглифами, отпечатались следы зверьих лап.
Ты еще встретишься с ним, — недобро усмехнулась Сульфа, наблюдая, как корчится на розовеющем в свете зари снегу голое, разрисованное невероятием полос и кругов, содрогающееся от любви тело Ксении. — Но сначала я научу тебя.
И пошла, пошла шаманская учеба! Денная, нощная. Ксения училась камлать. Ксения выворачивалась наизнанку, как выворачивают порожний мешок, чтобы добыть с заштопанного дна завалявшееся зерно или крупицу сахара. Сульфа зажигала костер и заставляла Ксению мчаться вокруг костра с бубном в ладонях, и, когда удары бубна учащались, Сульфа орала: «Ты — бубен!.. Ты — бубен!.. Твой живот из натянутой кожи!.. Сейчас я буду бить по тебе!..» — и била ее в живот, по заду, по бегущим икрам гладко обточенной черной палкой, срезанной из железного дерева. И Ксения превращалась в бубен, тело ее становилось деревянным, живот — куском натянутой кожи, вместо лица на холодном ветру звенели бубенчики, колокольцы, и Сульфа ударяла в нее наотмашь палкой и кричала: «Бей в бубен! Бей в бубен! Бей!..» — и летчики в истребителях, слыша в горах эти удары, этот крик и вой, видя далеко внизу золото-кровавый костер, вздрагивали и меняли курс. Сульфа учила ее превращаться в воду, в текучую воду, и Ксения стекала со скалы ледяным водопадом, разбиваясь на тысячу серебряных брызг, и Сульфа подставляла под молочно-лунные струи Ксеньиного ночного тела ладони, и ловила свет в ведра и кадушки, спеша, ликуя, высыпая на снег из бочек запасы моченой брусники и соленых грибов, чтобы освободить пустоты для принятия буйства воды, и толкала емкости, а потом и самое себя под водопад, — омыться, возликовать, родиться вновь! А Ксения, разбитая, расколовшаяся на тысячу лунных брызг, очнувшись, плакала в сильных, жилистых как у мужика руках шаманки.
Сульфа учила ее странствовать по звездам. Бегать среди звезд, задрав юбку. Бегать вокруг катящейся Луны голой, показывать Луне подмышки и тайные складки на теле. Сначала у Ксении кружилась голова. Она боялась свалиться на землю. Потом притерпелась, и гуляние вокруг звезд нравилось ей. Сверху все казалось такое маленькое. Не видно было людей, самолетов, поездов; реки вились тонкими синими волосами; родимые пятна морей горели на боках круглого шара, подобного тем, что Сульфа носила на шее; шар уменьшался, становился сначала круглой дыней, потом яблоком, потом — орехом, потом синей, с сизым налетом облаков, сливой, потом земляничиной, потом горошиной, потом — крупинкой чечевицы. Когда исчезал шар, звезды приближались. Ксения раскидывала им навстречу руки. Она хватала звезды в кулак, бросала их прочь, как горящие камни, обжигаясь. Она заворачивалась в звезды, как в простыню, купалась в их купальне.
Однажды она побежала, нагая, к звездной купальне; никого не было вокруг в мире, в бездонном черном небе, и Ксения ступила одною босой ногой в черно-серебряную дрожащую на ветру миров воду и погрузилась по женский цветок, по грудь, по шею, — обернулась, и вдруг три лица, три старых, жеванных временем, изъеденных молью годов, корявых шамкающих лица со слезящимися воспаленными глазами, с красными веками и белками в прожилках лопнувших сосудов, — три старика следили за ней, за ее купанием, и ей почудилось, что она снова в Армагеддоне, и нельзя шагу ступить, без того, чтобы не подсмотрели, куда ты полетел крылато, где залег на ночлег. Старые грибы морщились под шляпками, жадно пожирали глазами ее тело, просвечивающее сквозь колышащуюся воду звездного затона. Старцы приблизились; из-под плащей высунулись крючковатые руки, протянулись, желали схватить. Ксения пулей вылетела из купальни в живую черноту. У нее не было ни клочка тряпки, чтоб окутаться, и ночь окутала, обвернула ее с ног до головы мерцающим покрывалом, и Ксения побежала среди звезд в переливающемся тысячью звезд покрывале, запахиваясь в него, задыхаясь, убегая от старцев прочь, и, когда дыхание пресеклось и она, преодолев немыслимые прогалы вечности, рухнула на землю, на притоптанный зверями снег перед избушкой Сульфы, до нее дошло, во что ее завернула благосклонная к ней ночь: в Млечный Путь, но она падала с небес долго и потеряла покрывало, и не донесла его до Сульфы, и горько плакала, а Сульфа, смеясь, утешала ее и кричала: хоть каждую ночь буду тебя в Млечную Дорогу завертывать, а хочешь, тебя сейчас в Луну превращу, навек царицей Ай-Каган станешь отныне?! Нет, не хочу сейчас, шептала Ксения, рано еще. Рано. Еще пожить хочу на земле. А какую жизнь живешь?.. Какую бы ни жила — все мои.
Если Ксения что делала не так, Сульфа секла ее веткой лиственницы. Наказание вызывало в Ксении гнев. Ее — бить?! Однажды она занесла руку для ответного удара. «А как же твой Исса?.. — насмешливо спросила Сульфа. — Как это, ты сама рассказывала, Он учил: ударят тебя по правой щеке, подставь…» И Ксения поняла. Цена смирения была высока. Самое великое смирение и унижение на вершинах, там, среди звезд, превращалось в великую смелость и гордость. Бросить смирением вызов небу — вот что надо было уметь. И Сульфа научила ее этому. Когда она поднимала руку с розгой, Ксения не отворачивалась. Но и не отводила руку бьющую. Рука бьющая и рука дающая — одна и та же рука. Разный только ты. Ты глядишь то со злобой, то великодушно. Погляди оком неба. Погляди глазом пустоты. Синим глазом горного озера. Мертвым черным глазом орудия, ждущего выстрела.
«Ты должна знать древние обряды, Ксения. Ты жительница Земли, и Земля древнее тебя, как бы тебе ни хотелось быть древнее. Как ты думаешь, откуда все сущее взялось?..» — «Из любви», — отвечала Ксения, не раздумывая. «Да, ты права. — Голос Сульфы был жесток и сух. — Из любви. Но не из сладкой. Не из нежненькой, не из добренькой. Из священной любви, а она жестока. Святость не все живые могут выдержать. Люди давно забыли, что такое священная любовь. Об этом помнят только звери. Но ты наполовину волчица, и ты выдержишь этот обряд. Идем!»
Они вышли из закута на волю. Снег бил им в лицо, колол раздувавшиеся ноздри, свивался над головами в серебряные круги. «Пойдем в пещеру. Там светильники. Туда я отнесла шкуру тибетского медведя, на которой ты спишь». Сульфа все время учебы спала отдельно от Ксении, на широкой лавке, устланной шкурами зверей — росомахи, лисы, шакала. «Звери сами подарили мне свои одежды, — пояснила Сульфа, поймав как-то раз Ксеньин мрачный взгляд. — Они стали оборотнями. Они превратились в людей. На время. Я храню их родовую одежонку. Наскучит им… придут. А я все сохраню. Все верну в целости. Они сами выгрызли на себе разрезы, из шкур вышли, все в крови, голые, жалкие люди. Велели мне: береги». Ксения просыпалась среди ночи, прислушивалась к ровному дыханию шаманки. Сульфа никогда не снимала кожаный балахон. Он прирос к ней. Иногда Ксении казалось, что он пошит из ее собственной, Сульфы кожи. «Ложись сюда. На медвежью шкуру». Жесткий, как дерево, голос. Жесткие слова. Железный цап руки, пальцы впечатываются в ее локоть до кости. Морганье стеклянных глаз медведя. Ксения обнажилась, легла послушно. Сульфа вытащила из-под медвежьей головы гнутую палку о двух концах, то ли деревянный крюк, то ли оружие, которое бросишь — а оно, сделав круг под небом, возвращается назад и убивает тебя, пославшего его. Вот банка с сильно пахнущим маслом. Цветы, из которых масло добывают, растут высоко в горах и видят только снег. Их надо набрать много, много, сложить в чан и давить лепестки ногами. Плясать на них. Наружу выйдет масло. И ты сольешь его в банку, в бутыль. «Натирайся, — сказала Сульфа и вылила на Ксению пригоршню масла. — Втирай в кожу. Откроются все дыры на теле. Откроются двери души. Тебе будет сначала страшно. Потом тебя будет жечь изнутри. Я налью тебе масла везде. И сюда и сюда. Влей масло в себя. Выпей его. Вбери.» Сульфа обильно полила маслом двурогий охотничий жезл. «Покажи мне, все ли двери открылись твои». Створы раковины отошла. Распахнулись двери в метель. Сульфа поднесла конец двурогой палки к животу Ксении.
ТАЙНАЯ ПЕСНЬ КСЕНИИ О ГРЕХОВНОЙ ЛЮБВИ ЕЯ
Что она делает. Что это. Если так было в древности, я не хочу туда. Узда на зубах, меня взнуздали, как лошадь. Мне связали щиколотки, запястья за спиной. Я стреножена. Пригвождена. Каменный крест. Я лежу на шкуре медведя на каменном кресте. Сульфа, мы обе насажены на два рога звездного Священного Быка Оваа. Рог в тебе, рог во мне. Не шевелись! Я не шевелюсь. Я молчу. Все тихо. Боль, свет, масло внутри нас. Оно льется и струится. Вот сейчас. Вот теперь я начну раскачиваться. Возьму тебя за узду. Она врезается тебе в губы, в десны. Вынимаю из-за пазухи яйцо. Кладу тебе во взнузданный рот, чтобы ты не кричала. На глаза тебе кладу еловую лапу. Чтобы ты не смотрела больше. Чтобы видела только мрак, колючий холодный мрак, иглу света внутри мрака. Я раскачиваюсь сильнее. Ты раскачиваешься сильнее. Священный Рог сильнее пронзает тебя. Священный Рог сильнее пронзает меня. Масло, масло звездных цветов льется в тебя и из тебя. Как горят твои розовые лепестки. Мы будем с тобой две розы. Мы будем с тобой две змеи. Мы сплетемся, и ты будешь кричать от моей боли, а я от твоей. Мы два червя. Кольца наших тел сплетаются и льются длинными каплями масла. Мы две лисы. Хвосты наши пушисты. Слышишь, как обнимают нас, наши нежные тела пушистые хвосты наших диких душ? Бабочки. Мы две бабочки. Мои руки — твои крылья в пыльце. Маши ими, маши. В нежном брюшке, покрытом пыльцой, — моя игла. Ты уже не вытащишь ее. Мы две птицы. Я впускаю в тебя коготь. Ты бьешь крыльями, теряя перья. Вот мы, две волчицы! Род продолжается, даже если из рода никого не осталось. Даже если Род Волка убит. Вырезан весь. Мы, две волчицы, возродим его. Глубоко в земле течет, бьется, кричит кипящее масло. Масло в тебе вскипело. Я выпью его из твоего чрева. Серебро Луны переходит в золото. Я сажусь на тебя каждую ночь, как в ладью, и плыву в руки бездны. Качай меня в ладье. Качай меня в колыбели. Рождай меня. Боль есть любовь. Смотри, в обеих руках у меня два волчонка, я даю зверям сосать твои груди. Так надо. Так делали наши матери и праматери. Так велела Бездна Мира. Ты была нерожденной. Сейчас ты рождаешься. Я пляшу на тебе великанскую пляску, слезы текут из широких глаз. Из моих? Из твоих? Где ты? Где я? Мы одно, и Мир, Священный Бык Оваа, поддел нас на рога и велит нам кричать и биться и истекать горячим маслом. Сила крутит меня и тебя. Сила Бездны, сила священной любви. Вот она какая, священная любовь. Она может быть у тебя со всем. Со всем на свете. Не только со мной. Со зверем. С деревом. С камнем. С морем. С горой. С небом. С широким небом, полным звезд, раскинувшимся над горами. С оружием, из которого тебя хотят убить. Со смертью.