— Но это их подкрепляет, — заверил его Кузнечик, — так что они могут искать другую еду.
Они отошли от сетки. С капюшонами, надвинутыми на лбы, хлюпая по грязи башмаками, они брели через слякотный двор. Там, где снег стаял, проступали белые полосы колец. Летом они отмечали спортивную площадку. Горбач подошел к машине одного из учителей, которую поленились поставить в гараж, и поскреб пальцем лед на капоте.
— Дешевка, — сказал он. — Эта машина.
Кузнечику нравились старые машины, и он ничего не ответил. Нагнулся посмотреть, есть ли под днищем сосульки, но сосулек не было. Они побрели к крыльцу.
— Знаешь, мне как-то спокойно теперь, когда я их покормил, — сказал Горбач. — Всегда про них думаю — и нехорошо. А как покормлю, проходит.
— А у меня в глазах иногда черные кошки мелькают, — невпопад произнес Кузнечик. — Шмыгают под кровать или под дверь. Мелкие такие. Странно, правда?
— Это потому, что ты «туманно» смотришь. Говорят тебе, не смотри «туманно». А ты смотришь. Так у тебя и носороги побегут. Как у Красавицы бегает его тень.
— Так больше видно, — вступился Кузнечик за «гляделки». Скорее по привычке, чем надеясь переубедить Горбача.
Некоторые задания не удавалось хранить в тайне. «Гляделки» Чумные Дохляки вычислили почти сразу. И невзлюбили. Трудно поддерживать связный разговор, играя в «гляделки». Как Кузнечик ни старался, у него это пока не получалось.
— Ага, — фыркнул Горбач. — Больше. Конечно. Например, больше черных кошек, которых нет!
— А что за тень бегает у Красавицы? — поинтересовался Кузнечик, неловко меняя тему.
— Его собственная. Но как бы живая. Ты его лучше не спрашивай. Он боится.
Они дошли до крыльца и постучали о ступеньки ботинками, отряхивая грязь. На перилах сидела старшеклассница и курила, глядя во двор. Ведьма. Без куртки, в одной водолазке под замшевым жилетом. Кузнечик поздоровался. Горбач тоже поздоровался, на всякий случай скрестив пальцы в кармане куртки.
Ведьма кивнула. С крыши крыльца капало, и капли отскакивали ей на брюки, но она этого не замечала. А может, ей просто нравилось сидеть там, где она сидела.
— Эй, Кузнечик, — позвала она. — Иди сюда.
Горбач, придерживавший дверь, обернулся. Кузнечик послушно подошел к Ведьме. Она бросила сигарету.
— А ты иди, — сказала она Горбачу. — Иди. Он скоро придет.
Горбач топтался около двери, угрюмо глядя на Кузнечика из-под капюшона. Кузнечик кивнул ему:
— Иди. Ты весь мокрый.
Горбач вздохнул. Потянул дверь и вошел в нее, пятясь, не отрывая глаз от Кузнечика, как будто предлагал ему передумать, пока не поздно. Кузнечик подождал, пока он уйдет, и повернулся к Ведьме. Ему не было страшно. Ведьма была самой красивой девушкой в Доме и к тому же — его крестной матерью. Страшно не было, но под ее пристальным взглядом сделалось неуютно.
— Садись, поговорим, — сказала Ведьма.
Он сел рядом на сырые перила, и ее пальцы стянули с него капюшон. Волосы Ведьмы, как блестящий черный шатер, доходили ей до пояса. Она их не собирала и не закалывала. Лицо ее было белым, а глаза такими черными, что радужка сливалась со зрачком. Настоящие ведьминские глаза.
— Помнишь меня? — спросила она.
— Ты назвала меня Кузнечиком. Ты — моя крестная.
— Да. Пора нам с тобой познакомиться поближе.
Она выбрала странное место и время для знакомства. Кузнечику было мокро сидеть на перилах. Мокро и скользко. А Ведьма была одета слишком легко для улицы. Как будто так спешила познакомиться с ним поближе, что не успела даже накинуть куртку. Он свесил одну ногу и уперся носком в доски пола, чтобы не упасть.
— Ты смелый? — спросила Ведьма.
— Нет, — ответил Кузнечик.
— Жаль, — сказала она. — Очень жаль.
— Мне тоже, — признался Кузнечик. — А почему вы спрашиваете?
Черные глаза Ведьмы смотрели таинственно.
— Знакомлюсь. И давай на ты, хорошо?
Он кивнул.
— Любишь собак? — спросила Ведьма.
— Я люблю Горбача. Он любит собак. Любит кормить их. А я — смотреть, как он их кормит. Хотя собак я тоже люблю.
Ведьма подтянула одну ногу на перила и опустила подбородок на колено.
— Ты можешь мне помочь, — сказала она. — Если, конечно, хочешь. Если нет, я не обижусь.
Кузнечику капнуло за ворот, и он поежился.
— Как? — спросил он.
Это имело какое-то отношение к смелости и к собакам. А может, ему так показалось, потому что Ведьма о них заговорила.
— Мне нужен кто-то, кто передавал бы мои письма к одному человеку.
Волосы закрывали ее лицо.
— Ты понимаешь?
Он понял. Ведьма — из людей Мавра. Письма — кому-то из людей Черепа. Это было понятно, и это было плохо. Опасно. Опасно для нее, для того, кому предназначались письма, и для того, кто эти письма стал бы ему носить. О таком никто не должен знать. Поэтому она спросила, смелый ли он, поэтому во дворе и вечером, без куртки и без шапки. Наверное, увидела его из окна и сразу спустилась.
— Я понимаю, — ответил Кузнечик. — Он человек Черепа.
— Да, — сказала Ведьма, — правильно. — Она полезла в карман, достала зажигалку и сигареты. Ее руки покраснели от холода. Из замшевой жилетки, сшитой из кусочков, торчали нитки. — Страшно?
Кузнечик промолчал.
— Мне тоже страшно, — она закурила. Уронила зажигалку, но не стала поднимать. Спрятала ладони под мышки и сгорбилась. В ее волосах блестели серебряные капли. Ведьма качалась на перилах и смотрела на него.
— Тебе не обязательно соглашаться, — продолжала она. — Я не стану напускать на тебя порчу. Если ты веришь в эту ерунду. Просто скажи, да или нет.
— Да, — сказал Кузнечик.
Ведьма кивнула, будто не ждала другого ответа:
— Спасибо.
Кузнечик болтал ногами. Он промок до трусов. Ему уже было все равно, что он мокрый. Двор стал темно-голубым. Где-то выли собаки. Может, те самые, которых кормили они с Горбачом.
— Кто он? — спросил Кузнечик.
Ведьма спрыгнула с перил и подняла зажигалку.
— А как ты думаешь?
Кузнечик никак не думал. Он любил угадывать, но сейчас ему было холодно, а людей Черепа было слишком много, чтобы представлять себе каждого по очереди и думать, в кого из них можно влюбиться.
— Я не знаю, — сдался он. — Ты скажи.
Ведьма нагнулась к нему и шепнула. Кузнечик захлопал ресницами. Она тихо рассмеялась.
— Почему ты сразу не сказала? С самого начала? Почему?
— Тсс! Тихо, — ответила она, смеясь. — Только не кричи. Это не так уж важно.
— Почему ты не сказала!
— Чтобы ты не согласился сразу. Чтобы подумал, как следует.
— Я буду счастлив, — прошептал Кузнечик.
Ведьма снова рассмеялась, и волосы заслонили ее лицо.
— Конечно, — сказала она. — Конечно… Но ты все же подумай.
— Где письмо?
Она подышала на руки и достала из кармана жилетки конверт.
— Вот. Не потеряй, — Ведьма сложила конверт и спрятала ему в карман. — Передашь это своему другу. А у него возьмешь другое и передашь мне. Сегодня. На первом около прачечной. После ужина. Я буду тебя ждать. Или ты меня подождешь. Будь осторожен.
— Какому другу? — удивился Кузнечик, но сразу догадался. — Слепому?
— Да. Постарайся, чтобы вас никто не видел.
— И про Слепого ты не сказала. Почему?
Ведьма сунула руку ему в карман, затолкала письмо поглубже и застегнула карман на клапан, чтобы конверт не высовывался.
— Ты проверяла мою смелость, — укоризненно сказал Кузнечик. — Ты меня проверяла. Но я и так бы согласился.
Ведьма провела ладонью по его лицу:
— Я знаю.
— Потому что ты — Ведьма?
— Какая я ведьма? Просто я знаю. Я много чего знаю, — она натянула ему капюшон на голову и открыла дверь.
— Пошли. Холодно.
Кузнечику было уже не холодно, а жарко.
— Скажи, — произнес он шепотом, когда они поднимались по лестнице. — Скажи, а что ты про меня знаешь?
— Я знаю, каким ты будешь, когда вырастешь, — сказала она.
Черный шатер волос и длинные ноги. Звонкий стук подкованных ботинков по ступенькам.
— Правда?
— Конечно. Это сразу видно, — она остановилась. — Беги вперед, крестник. Не надо, чтобы нас видели вместе.
— Да!
Он взбежал вверх по лестнице и на площадке обернулся.
Ведьма подняла на прощание руку. Он кивнул и взлетел через пролет. Дальше бежал, не останавливаясь. Мокрые джинсы липли к ногам. Что она про меня знает? Каким я стану, когда вырасту?
В спальне Слепого не было. Фокусник, положив больную ногу на подушку, с отрешенным видом терзал гитару. На кровати Горбача возвышалась белая треугольная палатка. Каждое утро эта палатка из простыней, натянутых на деревянные планки, обрушивалась, и каждый вечер Горбач устанавливал ее заново. Он любил, когда его не было видно.
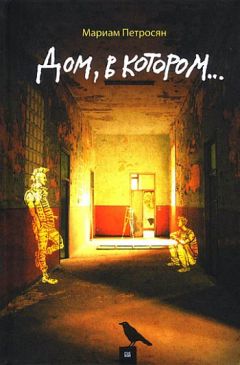
![Мариам Петросян - Дом, в котором… [Издание 2-е, дополненное, иллюстрированное, 2016]](https://cdn.my-library.info/books/127223/127223.jpg)



