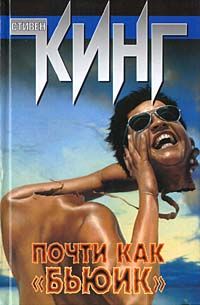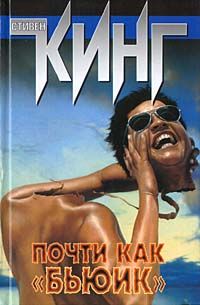– Это на ступень ниже пастора?
– Не ниже. Пасторов не так уж много. Мало желающих. Это поглощает всю твою жизнь, требует полного самоотречения. Одна из клиник в центре города предоставляет возможность бесплатного обследования детей, которым перевалило за сто дней, включая прививки. Некоторые из наименее благополучных членов нашей общины пользовались услугами этой специфической клиники, но я там никогда не бывал. Двенадцатого ноября я заехал за ними в их трехкомнатную клетушку в центре и повез их туда. На крышах лежал снег, на улицах – гололед, но день стоял по-летнему ясный. Марианна казалась расстроенной, и я всю дорогу пытался ее утешить. Но что бы я ни говорил, она лишь крепче прижимала малютку к груди и согласно кивала головой. Она точно так же закивала бы, если бы я сказал, что хочу въехать в реку повидать друга. Очевидно, Аналисса была больна, но Марианна никому об этом не говорила и очень боялась за дочку. Большая девочка Марианна. Вроде даже хорошенькая, но уж слишком большая. В ее руках Аналисса казалась запеленутой ягодкой. От одной руки несло спиртом – не питьевым, а для растираний.
Клиника располагалась в одном из этих недостроенных зданий недалеко от Института искусств – единственном обитаемом доме в квартале, насколько я понял. Во всяком случае, в тот день. Мест на окрестных парковках более чем достаточно, поскольку машин там вообще нет, а те, что я видел, были без колес или без двигателей. Мы остановились у самого входа, и, пока Марианна выбиралась из машины, я держал Аналиссу на руках. Малютка оказалась невесомой как меренга. У нее был жар, личико в красных пятнах, но она постоянно двигала ручонками под одеялом и совсем не плакала.
«С девочкой все нормально, – сказал я Марианне, когда та забирала ее у меня. – Просто она никак не может решить, то ли потанцевать со мной, то ли дать мне в лоб».
Марианна даже чуть улыбнулась. Но, поднявшись по ступенькам, мы увидели на побитой деревянной двери траурный венок. В приемном покое было пусто, не считая одной нянечки и одной регистраторши. Они сидели за письменным столом и пили горячий чай из бумажных стаканчиков.
«Мы записаны на прием, – сказал я. – Аналисса Петтибон».
Нянечка в маленьких круглых очках, с белыми кудряшками, выбивающимися из-под шапочки, была похожа на пуделя.
«Вы что, газет не читаете?» – спросила она и исчезла за дверью.
Регистраторша с извиняющимся видом встала из-за стола. Я хорошо помню ее юбку, черную, до пят. Сама она блондинка лет, может, за сорок. Сбитненькая, коренастенькая, этакий обрубочек. Похожа на маленькую девочку, порывшуюся в материном шкафу. И при этом у нее был чрезвычайно мягкий, чрезвычайно глубокий голос и протяжный выговор; Техас, Алабама – откуда-то оттуда.
«Милочка, разве вам не позвонили?» – обратилась она к Марианне, которая сразу вся напряглась, и я понял почему. У нее не было телефона.
«Послушайте, мы все равно уже здесь, – сказал я. – Объясните хотя бы, что происходит. Вы что, закрылись? Обанкротились? Может кто-нибудь привить ребенка или нет?»
Женщина вздохнула, сложила ладони чашечкой, словно собираясь принять причастие, и сказала: «Доктор умер».
Аналисса запищала и закашлялась, и Марианна села ее покормить. Регистраторша смотрела на нее, стоя в той же позе.
«У вас что, только один доктор?» – спросил я.
Женщина, продолжая держать руки перед собой, улыбнулась мне чрезвычайно тягучей, чрезвычайно мягкой улыбкой.
«Мне очень жаль, но у нас траур, – сказала она. – В клинике три постоянных врача, и завтра они приступят к своим обязанностям. Возможно, будет большая очередь, ведь мы были закрыты несколько дней. Но если вы привезете Аналиссу, уверяю вас, мы найдем для нее время».
Я поблагодарил ее и стал ждать, когда Марианна закончит кормить. Мы были уже на полпути к выходу, как вдруг – даже не знаю, что заставило меня задать этот вопрос, – я обернулся и спросил: «А какой доктор умер?»
Руки у женщины разжались.
«Основатель этого заведения и его душа. Доктор Колин Дорети».
Я уже догадался. Как только Спенсер произнес это имя, поднялся ветер, пронесся над нами и затих.
– Не помню, как я довез Марианну домой, – продолжает Спенсер. – И вообще ничего не помню, кроме того, что я пошел в нашу церковь и всю ночь проспал на скамейке. К утру, когда я проснулся, шея так затекла, что ею можно было дрова рубить. Но что самое странное, чувствовал я себя прекрасно. И это было таким облегчением, что я упал на колени и разрыдался. Один раз зашел пастор Гриффит-Райс, спросил, не нужно ли мне чего, и оставил меня в покое.
– Спенсер, ты веришь в судьбу? – спрашиваю я. – Просто у меня такое впечатление, что каждый наш шаг в любом направлении приводит нас в одно и то же место. Или назад друг к другу.
– Я верю в верование, – отвечает он. – Я верю в делание. Я верю, что признавать своим то, что ты сделал, – это честность, а претендовать на то, что будет дальше, – это высокомерие. Я верю, что в нашей жизни есть моменты, когда мы это почти понимаем, и что добро, которое мы чуть-чуть не доделываем, гораздо мучительнее для людей порядочных, чем зло, которое мы доводим до конца.
– Добро, которое мы чуть-чуть не доделываем?
Он бросает на меня быстрый взгляд и отводит глаза. Я хватаюсь за перила «палубы». Перчатки на моих руках блестят от влаги.
Голос Спенсера становится все глуше и глуше, пока не переходит на шепот.
– На следующее утро Марианна Петтибон снова принесла Аналиссу в клинику. Я с ними не поехал; я был слишком потрясен смертью доктора – да и тем, что просто услышал его имя, – чтобы исполнять обязанности попечителя. Они прождали часа два, но их все не принимали, и Марианна пошла в туалет. Аналиссу она оставила под присмотром южанки-регистраторши. Та положила малютку на стул рядом со своим столом. Девочка лежала и кашляла, но не плакала. Тут зазвонил телефон, и в то же время еще одна женщина, ожидавшая с самого утра, не выдержала и раскричалась, требуя, чтобы ее приняли. Тогда же одного из докторов как-то угораздило поскользнуться и разбить стеклянную пробирку, которую он держал в руке, и в результате весь пол был залит кровью. Сбежались люди. Кто-то кинулся ему помогать, кто-то подтирал пол. Поднялась страшная суматоха. А когда суматоха улеглась, регистраторша посмотрела на стул и обнаружила, что Аналисса пропала.
– Пропала.
– Не забывай, меня при этом не было. Я рассказываю с чужих слов. Ребенок словно испарился. – Спенсер, не снимая перчаток, пытается запихать руки в карманы пальто. – Марианна, конечно, раскисла. Она совсем упала духом и за два дня съела все таблетки, которые были у нее в аптечке. Умереть она не умерла, но таблетки сделали что-то страшное с ее пищеварительной системой, и теперь она вынуждена питаться пустым супом, так как ни с какой другой едой ее организму не справиться. Тем временем церковь сделала то, что она умеет лучше всего, – она мобилизовалась. Мы разослали людей по домам всех пациентов, кого нам удалось найти из тех, что приходили на прием в то утро. Пасторы ездили домой к той регистраторше с елейным голосом. Она жила в Ферндейле, недалеко от дома моей матери, с двумя чистопородными далматскими догами. Мы даже обращались в полицейский участок и очень им докучали. Мы обращались к мэру, и тот согласился встретиться с пастором Гриффит-Райсом. Они, оказывается, давние друзья.
По ночам мы собирались в церкви и молились. Сотни людей, из ночи в ночь. Помню, я как-то оглянулся, когда все тихо молились при тусклом свете, под негромкие звуки роялей, и один из пасторов стоял и раскачивался, может быть, пел, и я, помнится, подумал тогда: «Господи, как же нас много!»
Я страшно боялся за Марианну. И никак не мог забыть ощущение, которое я испытывал, держа на руках эту кроху. Но страдал я гораздо меньше, чем следовало. Мне все время надо было куда-то ходить, понимаешь? Надо было давать утешение, и бывало, что его принимали, а это большая редкость.
– Знаю, – говорю я.
– Я знаю, что ты знаешь.
Только ощутив на щеке легкое влажное прикосновение – словно поцелуй призрака, – я понимаю, что идет снег. Смотрю на небо – оно совершенно бесцветное: не серое, не голубое, не белое; снежинки падают с него медленно и бесшумно. Ветер улегся, и снег не пляшет на пути к земле, а просто падает.
– Через два дня после того, как Марианна пыталась покончить с собой, – продолжает Спенсер, – меня навестил пастор Гриффит-Райс, он беседовал с врачами, и они сказали, что она, по всей вероятности, выживет. Я опустился на колени у окна и стал молиться, обливаясь слезами. На улице шел дождь со снегом, окна у меня никогда плотно не закрывались, и было слышно, как сквозь щели вползает холод. Мне некуда было деваться. Нечего делать. Я годами не ходил в кино, я мало чего читал помимо Библии, меня некому было ждать; в общем, все бы хорошо, только всякий раз, сгибая руки в локтях, я ощущал эту легкую тяжесть ерзающего младенца. И вдруг я понял, что хочу повидать Терезу и выразить ей соболезнования по поводу кончины ее отца. Я не стал тратить время на размышления. Встал, бросив на столе недоеденное жаркое, и порулил к Сидровому озеру.