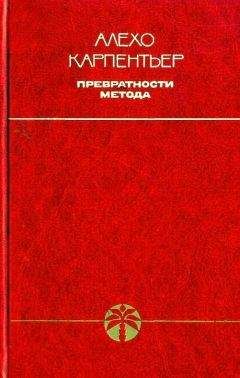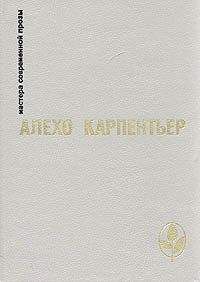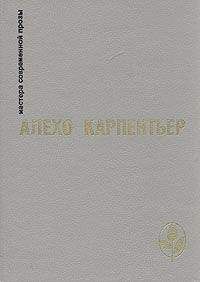Однако за спиной того, кто созерцал монумент, находились кое-какие произведения, которые, видимо, с несравненно большей точностью отражали дух картезианской Франции. Включив электричество, он обернулся к ним. И представившееся его взору оказалось столь неожиданным, столь абсурдным, столь непостижимым, что рухнул он в кресло, вдруг обессилев от попыток что-либо понять… Вместо святой Радегунды меровингской Жан-Поля Лорана с ее иерусалимскими пилигримами торчали каких-то три персонажа, плоские настолько, что и персонажами не казались, туловища которых были расчленены на геометрические фигуры, а лица — если это можно считать лицами — закрыты масками.
Один — в капюшоне, напоминающий монаха, — держал а руке нотную бумагу; другой, посредине, в колпаке паяца, дул во что-то похожее на кларнет; у третьего, одетого в костюм рисунка шахматных клеток, наподобие арлекина, в руках была не то гитара, не то мандолина, не то лютня — уточнить нельзя, видна лишь какая-то треть инструмента. И все три персонажа — если это были персонажи, — неподвижные, гротескные, точь-в-точь явления из кошмара, глядели, с таким видом, будто им неприятно было присутствие вторгшегося сюда.
«Что вы тут делаете? — как бы допытывались у него. — Что вы тут делаете?..» Но это еще не всё: по другую сторону вместо изящного морского вида Эльстира появилось нечто неопределенное — скрещение горизонтальных, вертикальных и диагональных земельно-песочной расцветки полосок, и на этих полосках красовался наклеенный обрывок газеты «Ле матэн»; Экс — попробовал ногтем мизинца отодрать его, но ему это не удалось — слишком крепок был клей и покрывавший всю поверхность лак. Напротив, где ранее висел «Ужин кардиналов» Дюмона, сейчас прикреплено было нечто совершенно лишенное мысли, скорее означающее набор образцов красок фирмы «Риполэн»: красные, зеленые, белые круги и прямоугольники, разграниченные черными жирными линиями.
Рядом место «Маленького трубочиста» Шокарн-Моро занимало изображение некой разновидности Эйфелевой башни — горбатой, наклонившейся, кривоногой, большелапой, как будто переломленной ударом титанической кувалды, обрушившейся с неба. А далее, между двух дверей, виднелись какие-то женщины — впрочем, женщины ли? — с ногами и руками, надо полагать, сфабрикованные из кусков труб парового отопления. Там, где в свое время я поместил «Светский прием» Беро с волшебством кружев, кружевного шитья, высвеченных изнутри, перед моими глазами топырилась невообразимая галиматья, к тому же имевшая абсурдное название, выписанное четкими и округлыми буквами: «Недреманное око метилового арсенида». На вращающейся подножке из зеленого мрамора была установлена мраморная форма, точнее — бесформенная форма, без четкого замысла и какого-либо смысла: шарики — два внизу и нечто удлиненное, задранное вверх, что можно, конечно, простите меня, истолковать по-всякому, хотя изображенное не слишком реалистично, зато чрезмерно непропорционально и, бесспорно, непристойно, и что, кстати, скрывают в обществе. «Однако… что за беспутство все это?» — «Модернистское искусство, сеньор Президент», — тихо проговорил Чоло Мендоса, оставивший на мансарде Мажордомшу, закутанную в шали, прикорнувшую под теплым одеялом…
Поспешно переходя из комнаты в комнату, Экс повсюду обнаруживал те же графические извращения, те же ужасающие уродства: сумасбродную, донельзя вздорную, донельзя «загерметизированную» мазню, вне связи с чем-либо из настоящего, давнего прошлого либо легендарного, без сути, без идеи. Изображенные фрукты не были фруктами, а дома оказывались многогранниками, на физиономиях вместо носов выпячивались чертежные треугольники, у женщин груди помещены не там, где им надлежало быть, — одна вверху, другая внизу, или зрачок на виске; а далее — два торса настолько перекручены, настолько переплетены и слиты их корпусы, что потеряли они человеческое и приобрели скорее скотское, — для того, чтобы показать двоих, занятых этим (у Экс под замком хранилась богатая коллекция порнографических рисунков), художнику, бесспорно, не хватило мастерства, умения передать ракурс, пластичность движений и форм; ничем, даже в самой ничтожной степени, не обладали эти обанкротившиеся художники, именовавшие себя — «модернистами», — не способны они были ни воспроизвести обнаженное тело, ни показать молодого спартанца на фоне Фермопил, ни заставить бежать лошадь, которая была бы лошадью, ни расписать — скажем к слову — плафоны Парижской оперы либо изобразить битву с эпическим талантом Детайля.
«Я прикажу снять всю эту мерзость!» — закричал хозяин дома, почувствовав себя Хозяином Дома, срывая «Недреманное око метилового арсенида». «Можно ли поверить, неужто это ты!» — раздалось за его спиной восклицание только что вошедшей Офелии, одетой в синий вечерний костюм, несколько растрепанной, взбудораженной — еще, видимо, не освободившейся от воздействия выпитых бокалов. «Дочка! — откликнулся Глава Нации, прижав ее к себе в таком порыве нежности, что голос его прервался. — Доченька! Плоть от плоти моя!» — «Папочка, милый!» — твердила она также со слезами на глазах. «Какая ты красивая, какая дивная!» — «А ты такой сильный, такой крепкий!» — «Иди сюда, сядь рядом со мной… Мне хочется столько тебе сказать… столько рассказать» — «Видишь ли…» И из-за плеча Офелии, на котором увядала пропахшая табаком орхидея, Экс увидел, точно на карнавальном шествии во Фландрии, со всклокоченными волосами, измазанные, невыспавшиеся рожи, явно перепившие. «Это мои друзья… Дансинг, в котором мы ужинали, уже закрыт… И мы приехали сюда — продолжать праздновать».
Люди, и еще люди; люди неопрятные, развязные, опустившиеся; люди грубые, невежливые, нахальные; люди, которые — почувствовали себя здесь будто дома — более чем дома: в борделе, — рассевшись на полу, без спросу вытаскивая бутылки из домашнего бара, закатывая ковер, чтобы легче было танцевать на навощенном полу, и — не обращали решительно никакого внимания на Экс.
Женщины с юбками выше колен, с прической под кружок, что там было отличительным признаком проституток; юнцы гомосексуалистского вида в клетчатых рубашках — вероятно перешитых из фартуков кухарок. А теперь еще заиграл патефон: «Yes. We have no bananas…» (Эту гнусность приходилось терпеть на пароходе во время всего плавания через Атлантический океан.) «We have no bananas. Today…»[359] Офелия, окруженная друзьями, хохотала, куда-то уходила, возвращалась, вытаскивала пластинки из книжного шкафа, приносила вино, наливала в бокалы, крутила ручку патефона, а с Экс, смиренно усевшимся на диване, вела диалог из обрывков фраз, бессвязных, из вопросов без ответов, из сообщений без уточнений — среди круговерти и круговерти по залу — не приехала на вокзал Сен-Лазар, потому что радиограмма о прибытии получена лишь вчера, поздно, когда уже была на вернисаже; а оттуда нужно было поехать на праздник, и только сейчас, поднявшись, узнала о приезде от консьержки: «…Да, сейчас мы будем счастливы; тебе нет необходимости возвращаться в ту страну дикарей». (А теперь зазвучал «Сент-Луис блюз», вызвавший неприятные воспоминания, — тот самый, что наигрывал консульский агент тем вечером…)
«Ты слышишь, я привез сюда Мажордомшу». — «А где она?» — «Спит наверху». — «Откровенно говоря, я не стала бы ее привозить». — «Она — единственный человек, который там мне не изменил… потому как… даже Перальта!» — «Мне всегда подсказывало сердце, что он сукин сын». — «Хуже, он карманный Макиавелли». «Даже не это, скорее — карман Макиавелли» (и снова: «Yes. We have no bananas») — «Я не стала бы захватывать с собой Мажордомшу, не представляю ее в Париже, еще одна головная боль, еще балласт». — «Нам надо поговорить об этом, надо о многом поговорить». — «Утром, утром, утром…» — «Но утро уже наступило, уже день наступил». (Опять «Сент-Луис блюз».) «Послушай-ка… И что же, ты хочешь оставить на стенах всю эту пакость?» — «Ай, не будь таким отсталым, дорогой мой старина, это ведь искусство сегодня, ты к нему привыкнешь». — «А мои полотна Жан-Поля Лорана, мой «Волк Губбио», мой морские пейзажи?» — «Их я продала на аукционе в «Отеле Друо» — по правде говоря, мне дали чепуху за всю партию, это уже никого не интересует». — «Чертовщина! Могли бы со мной посоветоваться!» — «Как я могла бы с тобой посоветоваться, если газеты на днях сообщали, что тебя сбросили? Об этом я узнала на ярмарке в Севилье». (Опять: «Yes. We have no bananas…») — «А когда ты узнала, плакала много?» — «Много, много, много…» — «Ты, конечно, стала носить черную мантилью?» — «Подожди, я должна завести патефон…» (Мелодию «Yes. We have no bananas…», раздававшуюся было глухо, перевела на более громкое звучание.) «Послушай… а эти люди еще долго будут здесь болтаться?» — «Если они захотят задержаться, выгонять их я не буду». — «Видишь ли, нам нужно о многом поговорить». — «Утром, утром, утром…» — «Но ведь утро уже наступило…» — «Если ты устал, иди поспи…» (Новая пластинка: «Je cherche apres Titine, Titine, — oh ma Titine…»[360], — и эта мелодия преследовала на борту парохода.)