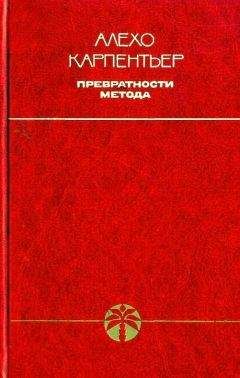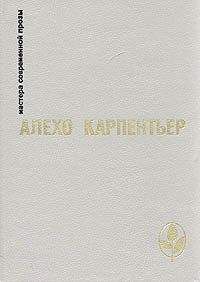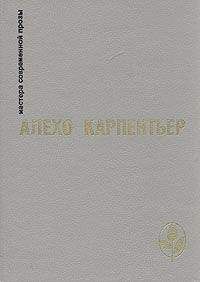А этот корень, похожий на гнома с головой-брюшком, покачивающегося на тонких ножках, по прозванию Коротышка — Humpty-Dumpty, — из гаитянской столицы Порт-о-Пренс; там в предместье Ля Фронтьер, среди таверн с местной настойкой «тассо» и многолетней выдержки ромом из горного района Дондон, голые негритянки разлеглись в плетеных гамаках; поджидая очередного клиента, они сохраняют королевское высокомерие, как бы замкнувшись в себе и чуждаясь всего, — рукой слегка прикрыли вьющиеся жесткие волоски, повторяя жест Олимпии Манэ, хотя и не имеют о ней понятия.
А консульский агент мне уже показывает «Эразма Роттердамского» — корень из мексиканского порта Веракрус, поразительно схожий видом своим с погруженным в размышления гольбейновским гуманистом; и «Пикрошоля с Мердайлем»[341] — бамбуковые корни, точно раблезианские задиристые вояки, нацелившиеся копьями; и химерическое «Коксигрю» с длинным клювом и зубчатым гребнем — не то журавля, не то петуха; и «Кикимору» с растрепанными волосами и шпорами; и три корневища от одного ствола, точь-в-точь Pieds-Nickles — с никелированными, что ли, ногами (которых хорошо знал, а почему бы и не знать, если в течение ряда лет я подписывался на парижское издание «Л'эпатан»), и немного поодаль романтически перепутанный клубок из кубинских мангровых зарослей, названный «Присцилианской ересью»[342], и там же лиана-танцовщица «Анна Павлова» и «Циклоп», который красным камнем, инкрустированным во лбу, как бы наблюдавший за сумасбродным миром, взгромоздившись на консоли с другими корнями-монстрами — с «Лернейской гидрой», с «Рэкемской колдуньей»[343], оседлавшей метлу, что составляла с ней одно целое, с шестифутовой «Великой Молчальницей», словно выточенной из растительного базальта, — правда, у нее не было прямых намеков на женские формы, однако расположение частей ее корпуса, совсем как в символах йорубов[344], пластичность и упругость линий, наслоенные округлости, выпуклости и вогнутости вызывают безошибочную реакцию руки, поднимающейся, чтобы прикоснуться к ним…
По правде говоря, консульский агент с редкостными познаниями в области культуры, своим владением иностранными языками — совершенно необычным для североамериканца — стал восприниматься как некто, предугадывающий будущее в дневном кошмаре, реальном, с глазами, пристально вглядывающимися в переживаемое настоящее. Под воздействием алкоголя я скатывался под откос ужаса, и как только освобождался от воздействия винных паров, меня вновь прошибал пот душевной тоски; в затылке, на лбу и в висках следовали удары молоточка предчувствий, рождавшиеся где-то в глубине и настолько сильные, что, по-моему, отдавались они и в кресле, в котором я сидел. А теперь янки уселся перед приткнутой в угол фисгармонией, протянул три регистра, нажал на педали и начал наигрывать что-то родственное той музыке, которая наводняла мою страну еще много лет назад, однако эта мелодия звучала более резко, более контрастно, более подчеркнуто, во всяком случае, чем «Whispering»,[345] «Three o’clock in the morning»[346], еще недавно набивавшие всем оскомину в Столице. И, не переставая — с беззаботным автоматизмом сельского музыканта — барабанить пальцами по клавишам, покачивая в такт головой, он затянул: «Южанин — я. Из Нового Орлеана я. Достаточно я бел, чтобы за белого сойти, хотя мои волосы, ладно, волосы, если бы не было подходящей помады, завивались бы больше у меня (si bemol, черт побери!). Я «пересек линию», как говорим мы там, однако, честно говоря, в сентиментальной области, например, я лучше разбираюсь только с темненькими. В этом я схожусь с моим двоюродным дедушкой Готтшалком, которого — вы это, конечно, не знаете, — Теофиль Готье предпочитал Шопену, возлюбленного самими ламартинианскими и филармоническими нимфами, проводившими ночи с Ференцем Листом. Прославленный в Европе, он был фаворитом монархов, другом королевы Испании, десятикратно награжденным, а в один прекрасный день, бросив всё — публику, дворцы, кареты, лакеев, — решил ответить на императивный, неотложный призыв негритянок и мулаток, которые поджидали его в тропиках, желая заполучить принадлежавшее им по праву раннего завоевания, И, следуя за ними, он бродяжничал по Кубе и Пуэрто-Рико, по всем Антильским островам, помолодевший, искатель приключений, свободный от протокольных обязанностей и почестей, вернувшийся к первым колыбельным песням, к своим юношеским мечтам, чтобы умереть в Бразилии, где также было полным-полно — да еще каких! — Святых мест его паломничества — «et les servants de ta mere, grandes filles luisantes, remuaient leurs jambes chaudes pres de toi qui tremblait… sa bouche avait le fout des pommes-roses, dans la riviere, avant midi…»[347]
(Не знаю, кому принадлежат эти слова, процитированные им, но, во всяком случае, вспоминаю, да, вспоминаю, что моя дочь Офелия, учась играть на рояле, исполняла приятные креольские танцы этого Моро Готтшалка, который, как мне передавали, однажды в Гаване включил рокот африканских барабанов в свою симфонию.) А янки все продолжал нанизывать: «Был другом, близким другом дивного Кристофера Хэнди[348], автора «Мемфис-блюза», что теперь вам играю». И сразу перешел на «Сент-Луис блюз» того же Хэнди, чем взволновал Мажордомшу, заставив ее пуститься в пляс — и, видимо, в лад, поскольку ее па и покачивания великолепно подходили к ритму доселе неведомой ей музыки. «Это у них в крови», — сказал южанин. Я смотрю на его руки, летающие по клавишам: это своего рода диалог — временами схватка, возражение и согласие руки-самки, правой, и руки-самца, левой, которые сочетаются, дополняют друг друга, отвечают друг другу, однако строго соблюдая синхронность, достигаемую одновременно вне и внутри ритма. Мажордомша, словно завороженная чем-то для нее новым, проникающим во все поры кожи, внезапно присаживается на скамейку перед фисгармонией, чувственно поводя плечами, манящая и дерзкая, одна ягодица на весу, поскольку для обеих не хватило места, уступленного консульским агентом. А тот, забывая о клавишах, наклоняется к шее Эльмириты, принимающей его ласки со смешком, будто от щекотки, позволяя ему обнюхивать себя, что он и делает с наслаждением христианина, проникшего туда, где хранятся кадила с ладаном.
И продолжает: «…Guide par ton odeur vers de charmants climates. Je vois un port rempli de voilures et de mats…»[349] — «Не суйся с Бодлером!» — закричал я, ревниво откликаясь на вторжение на мою землю, целину которой я поднял, вспахал впервые, более двадцати лет назад, и которая, неизменно покорная моей воле, теперь, когда я потерял всё, оставалась единственной частицей, последней, находящейся под моим правлением полоской той страны, что еще вчера была моей; моей — от севера до юга, от океана до океана, а ныне сузилась до нищенского колоска, до жалкого сарая из прогнивших досок, набитого мертвыми корнями, где я вынужден был ожидать суденышка, обещанного лишь на утро, на завтра — такое далекое, неправдоподобное, почти недосягаемое завтра! Суденышку предназначено вывезти меня отсюда, точно контрабандный товар, точно гроб с останками умершего в клинике богачей, — отсюда, где я был властелином человеческих судеб и асьенд. Поднимаю за руку Мажордомшу со скамейки, когда она начала было ластиться к гринго — более дозволенного — и рывком отталкиваю ее на соседнее кресло.
«Так лучше, — говорит, посмеиваясь, гринго, — потому как это и погубило мою карьеру». (Слово «карьера» — дипломатическая, надо думать — из уст другого, известного, кто он и где он, ассоциируется в моей памяти с определением «величайшая глупость», высказанным Дон Кихотом по поводу одного рыцарского романа, скверно представленного в театре марионеток. Для каждого латиноамериканца моего поколения «карьера» — это синекура с минимальной работой и максимальным наслаждением, пребывание в посольствах с декорациями большого оперного театра, среди итальянского мрамора и версальских люстр, со скрипками на эстраде, с вальсами бутоньерок и декольте, торжественными швейцарами, камергерами в коротких панталонах, с интригами, с вечерними коктейлями, альковными романами, с комплиментами a la валье-инклановский маркиз де Брадомин[350] и фразами a la Талейран, с чудесами такта и «savoir vivre»[351], — совершенно чуждых понятиям наших людей, которые никогда не привыкнут к нормам протокола и которые, не разузнав вначале, не посоветовавшись, допускают промахи — это бывало и в моем Дворце, — как, скажем, начать играть «Турецкий марш» Моцарта при акте вручения верительных грамот послом турецкого султана Абдул-Хамида либо исполнять республиканский «Гимн Риего»[352] при вручении верительных грамот посланником испанского короля Альфонса XIII…)
«Все у меня шло гладко, — продолжал южанин, — пока не обратили внимание, что в Париже я слишком увлекался мартиникскими танцами на Рю Бломе. С тех пор где я только не выполнял умопомрачительные миссии североамериканской дипломатии. Был консулом в бразильском порту Аракажу, в гватемальском городе Антигуа, на Кубе — в Гуантанамо, в Перу — в Мольендо, на Гаити — в Жакмеле, и даже в эквадорском порту Манте, где ежедневно, ровно в полдень, перед пляжами появляются акулы с пунктуальностью, сравнимой разве что с появлением апостолов на часах Страсбургского собора. А сейчас вот здесь — в этой мусорной яме, если можно так выразиться. И потому… знают, что я… (он посмотрел на Мажордомшу)… ладно, мы, ты и я, друг друга понимаем.