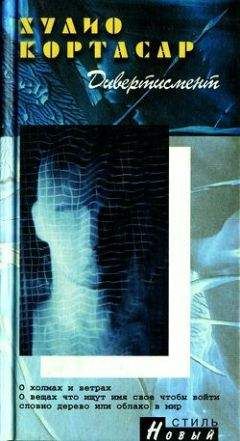Им снова попался таксист, скривившийся при виде кресла.
Да уж, эта штука — чистой воды детектор придурков…
Она устала.
Устала и отяжелела.
Камилла не хотела этого признавать, но ей то и дело приходилось поддерживать Полетту, подхватывать, чтобы та не упала, пересиливать сопротивление и перебарывать упрямство, чтобы заставить ее одеться, поесть и поддерживать разговор. Даже не разговор — Полетта с трудом могла отвечать. Строптивая старая дама не желала пускать к себе врача, а понимающая молодая женщина не пыталась пойти ей наперекор: во-первых, потому, что это противоречило ее принципам, а во-вторых, уговорить бабушку должен был Франк. Но когда они отправлялись в библиотеку, она погружалась в изучение медицинских журналов и книг и читала ужасные вещи о перерождении мозжечка и болезни Альцгеймера, после чего с тяжелым вздохом захлопывала этот ящик Пандоры и принимала плохие правильные решения: если Полетта не хочет лечиться, если ее не интересует сегодняшний мир, если она не желает доедать то, что лежит у нее в тарелке и ей нравится надевать пальто прямо на халат, прежде чем отправиться на прогулку, — это ее право. Ее законное право. Она не станет доставать старую женщину, а если кто-то захочет увидеть проблеск сознания в ее почти непроницаемых глазах, пусть задаст ей вопрос о прошлом, о ее матери, о сборе винограда, о том дне, когда господин аббат едва не утонул в Луаре, потому что слишком резко бросил накидную сеть и она зацепилась за одну из пуговиц его сутаны, или о ее любимом саде. Во всяком случае, ничего действеннее Камилла не придумала…
— А латук вы какой сажали?
— «Майскую королеву» или «Толстую ленивую блондинку».
— А морковь?
— «Палезо», конечно…
— А шпинат какой?
— Ну… шпинат… «Вирофлейский исполин». Он хорошо всходил…
— Черт, и как вы держите в голове все названия?
— Я даже пакетики помню. Каждый вечер листала каталог Вильморена, как другие мусолят свой требник… Я это обожала… Мой муж бредил охотничьими ружьями и патронами, а я увлекалась только растениями… Знаешь, люди приезжали издалека, чтобы взглянуть на мой сад…
Она ставила ее кресло на освещенное место, слушала и рисовала.
И чем больше рисовала, тем сильнее любила.
Может, не будь этого кресла, Полетта дольше оставалась бы на плаву? Неужели она стала впадать в детство по вине Камиллы, которая то и дело просила ее присесть, потому что так получалось быстрее и проще? Все может быть…
Тем хуже… Зато никто не отберет у них то, что они сейчас переживают — ни понимания с полуслова-полувзгляда, ни протянутых друг к другу рук в истаивающей с каждой минутой жизни. Ни Франк, ни Филибер, ни черта не смыслившие в их странной дружбе, ни врачи, которые все равно бессильны, когда старый человек вдруг вновь становится восьмилетним ребенком, который кричит с берега реки: «Господин аббат! Господин аббат!», горько при этом рыдая, ведь если аббат утонет, все дети из церковного хора попадут прямиком в ад…
— Я бросила ему свои четки, можешь себе представить, как сильно они помогли этому бедняге… Думаю, я начала терять веру именно в тот день: вместо того чтобы просить о помощи Господа, он звал свою мать… Мне это показалось подозрительным…
— Франк…
— Да…
— Я беспокоюсь за Полетту…
— Знаю.
— Что нам делать? Заставить ее согласиться на осмотр?
— Думаю, я продам мотоцикл…
— Так. Ладно. Плевать ты хотел на все, что я говорю…
Он его не продал. Не продал потому, что обменялся с поваром на его жалкий «Гольф». На этой неделе у него была страшная запарка, но он никому ничего не сказал, и в воскресенье они собрались втроем у постели Полетты.
На их счастье, погода стояла прекрасная.
— Ты не идешь на работу? — спросила она.
— Пфф… Что-то не хочется сегодня… Скажи-ка, э-э-э… Вчера вроде у нас была весна?
Они растерялись; человеку, с головой ушедшему в свои магические кулинарные книги, трудно дождаться отклика от тех, кто давно утратил представление о времени…
Но его это не смутило.
— Так вот, парижулечки мои, сообщаю: на дворе весна!
— Что ты несешь?
Да-а, публика реагирует вяловато…
— Вам что, и весна по фигу?
— Да нет, конечно, нет…
— Авот и да. Вам плевать, я вижу… Он подошел к окну.
— Ладно, не берите в голову. Я что хотел сказать — обидно сидеть тут и смотреть, как на Марсовом поле прорастают заезжие китайцы, когда у нас, как у всех соседей-богатеев, есть загородный дом, и, если вы чуть-чуть поторопитесь, мы еще успеем заехать на рынок в Азе и купить продуктов, чтобы приготовить хороший обед… Ну, в общем… Ладно, мое дело — предложить… Если вам это не улыбается, я пойду спать…
Похожая на черепаху Полетта вытянула дряблую шею из-под панциря: — А?
— Ну… Что-нибудь простое… Может, отбивные с овощным рагу… И земляника на десерт… Если будет хорошая. А нет, так я испеку яблочный пай… Поглядим… Бутылочка бургундского от моего друга Кристофа к еде и послеобеденный отдых на солнышке — как вам такая идея?
— А как же твоя работа? — спросил Филибер.
— Плевать! Разве я мало работаю?
— И на чем мы туда поедем? — съязвила Камилла. — На твоем супермотоцикле?
Он сделал глоток кофе и бросил небрежным тоном:
— Перед дверью стоит прекрасная тачка — мерзавец Пику окропил ее уже дважды за сегодняшнее утро, кресло сложено и лежит в багажнике, и я только что залил полный бак бензина…
Он поставил чашку и взял поднос.
— Давайте… Шевелитесь, ребята, у меня еще много дел…
Полетта упала с кровати. Не из-за мозжечка — от спешки.
Сказано — сделано. Они это исполнили. И теперь исполняли каждую неделю.
Как все зажиточные буржуа (но днем позже), они уезжали рано утром в воскресенье и возвращались в понедельник вечером с дарами природы, новыми набросками и здоровой усталостью.
Полетта воскресла.
Иногда у Камиллы случались приступы прозрения, и тогда она смотрела правде в глаза. То, что переживали они с Франком, было очень приятно. Будем веселы, будем безумны, запрем двери, сбросим старую кожу, пустим друг другу кровь, раскроемся, обнажимся, пострадаем немного и «розы бытия спеши срывать весной»[80], и ля-ля-ля, и бум-бум-бум. Да никогда из этого ничего не выйдет. Она не хотела зацикливаться, но их отношения обречены. Слишком они разные, слишком… Ладно, проехали. Она никак не могла собрать в единое целое Камиллу Раскованную и Камиллу Недоверчивую. Одна все время смотрела на другую, морща нос.
Печально, но факт.
Но иногда, иногда… Иногда ей удавалось разобраться в себе, и тогда две зануды сливались в одну — глупую и беспомощную. Иногда ему удавалось ее обмануть.
Как сегодня, например… Машина, послеполуденный отдых фавна, сельский рынок — это само по себе было неплохо, но потом он сделал ход посильнее.
У въезда в деревню он остановился и обернулся к ним:
— Бабуля, вам с Камиллой придется немного пройтись ножками… А мы пока откроем дом…
Гениальный ход.
Видели бы вы, как эта маленькая старушка в мольтоновых носочках, которая много месяцев подряд отплывала в страну воспоминаний, медленно погружаясь в ватное беспамятство, сделала несколько осторожных шажков вперед, а потом подняла голову, слегка распрямила плечи и почти отпустила руку своей молодой спутницы-поводыря…
Это следовало видеть, чтобы понять значение слов «счастье» или «блаженство». Видеть это просиявшее лицо и королевскую поступь, смотреть, как она слегка кивает вырвавшимся на волю газовым занавескам, слышать ее безжалостный диагноз состоянию сада и дверных порогов.
Внезапно она прибавила шагу, как будто воспоминания и запах теплого гудрона заставили ее кровь быстрее бежать по жилам…
— Смотри, Камилла, это мой дом. Это он.
Камилла застыла.
— В чем дело? Что с тобой?
— Это… это ваш дом?
— Ну да! Боже, ты только взгляни, как тут все заросло… Ни один кустик не подстрижен… Вот ведь беда…
— Совсем как мой…
— Что?
«Своим» она называла не дом в Медоне, где изнывали ее родители, а тот, что начала рисовать, впервые взяв в руки фломастер. Маленький домик, который она придумала, место, куда она пряталась от мира, чтобы мечтать о курочках и жестянках с печеньем. Ее кукольный трейлер, ее гнездышко, ее синий домик на склоне холма, ее «Тара», ее африканская ферма, ее крепость в горах…
Дом Полетты напоминал маленькую, крепко сбитую сельскую кумушку, которая, вытягивая шею из глухого воротничка, встречала вас, подбоченившись с понимающе псевдожеманным видом. Из тех, что, потупив очи, изображают смирение, излучая при этом довольство и собой, и жизнью.
Дом Полетты был лягушкой, которая мнила себя величиной с быка. Маленькой пограничной сторожкой, возжелавшей сравняться величием с замками Шамбора[81] и Шенонсо[82].