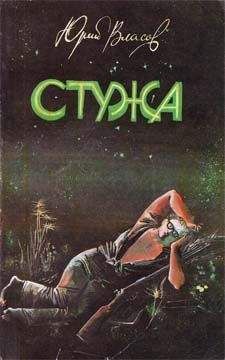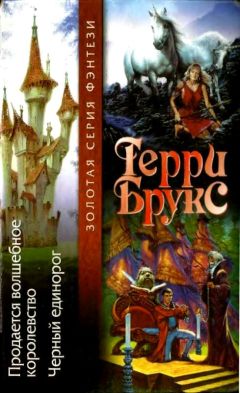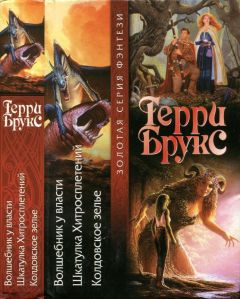Смотрю на худого. Пожалуй, я прав: пятьдесят. У худого костлявая шея с глубокой ложбиной посередине, голова по-тюремному выстрижена. И на самой макушке кепочка с маленьким козырьком — «заклепка». А сам он в затертом, затрепанном синем пиджаке и таких же «брючатах». Под пиджаком рубашка неопределенного цвета. От него за несколько шагов разит пивом…
Я в отпуске. И сам напросился с ними на промысел. Дед Иван двоюродный брат моей мамы.
Сейчас они расставят снасти и укатят в город. Я для них весьма кстати: вместо сторожа при ловушках. Пока сети в работе, делать всем нечего, а доставать их только утром.
— Настреляй перепелов, — велит дед Иван. — Ружье в багажнике, патроны пошукай на дни корзыны.
Я уже видел это ружье. Шагаю к автомобилю. Из тряпок торчит приклад. Лак вытерся подчистую. От носка приклада — трещина, спеленутая изоляционной лентой. Часть ложа, что идет в поджим под щеку, подглублена ножом, очевидно, чтобы сподручней целиться, отчего у ружья уродливо-диковинный вид. К тому же сам приклад бит-перебит… Отстегиваю ремень. В стволах глуховатый стук. Ну и стволы! В зазубринах, воронение облезло, местами конопатины ржавчины. Въелась напрочь — не сковыривается.
— В стволы глянь, а то раздует, — слышу я голос деда Ивана.
Я переламываю ружье: по каналам наросты ржавчины и копоти, а так — стрелять можно. Выбираю со дна корзины патроны. Гильзы захватаны и помяты, не первый раз стреляны. Засовываю в карман, стараясь не дышать. Мутит от требухи. Кажется, гниль липнет к лицу.
— По стирни шукай. — Дед Иван связывает шнуром мясные обрезки. — Тама зерно клюють.
По марке это «тулка». Да-а, шат выше всякого допуска.
— Ружью блеск ны нужен. — Дед Иван пробует на крепость мясной узел. — Это не баба. Стреляй, ны быйся. Бой завидный. На… — И он швыряет авоську. — Замисто сумки. В нее клады.
От озерца на стол степи — ленивый всход. Пылью, хотя ступаю высоко. Сухмень! До дождей верных два месяца.
Я оглядываюсь. С нашим озерком сцепляются еще два, такие же сплюснутые в берегах и будто бритые: ни деревца, ни осоки, ни рогозы.
Закладываю в стволы патроны: хорошо принимают. Метрах в пятидесяти — жнивье. Справа пыльная порошь от нашей машины. Расстегиваю до пояса рубашку. Мне приятно бессилие солнца. Сколько ни давит, а мне все нипочем. Зной смаривает все запахи — лишь раскаленность воздуха и пыли. Шуршит трава — не войдешь в бесшумный шаг. Ружье разогревается. Ощущаю это в перехватах. А оно, кажется, недурно вывешено. Не клюет — я вскидываю ружье и пробую «в поводке». Щелкают курки, когда отжимаю их. Пружины, видать, из ремонта, новые — туги…
Босым я, может быть, и подкрался бы. Досадливо смотрю на траву: колючки. Трава свяла, а в ней колючки. Не желтоватые, а с матовой зеленцой: запаслись водицей. Брюки у меня засучены до колен — ощущаю, как стебли поплотнее сцарапывают кожу. А полынь-то не сжухла — голубеет под пылью… Нет, по жнивью не потопаешь босым. Стерня как гвозди. Горбы по степи — это скирды. Тень от скирды, что в полсотни шагах от меня, — куцая: солнце в самой верхушке дня. В перекат валит по небу. Не то что зимой…
А почему в стерне нет кузнечиков?..
Тыкаюсь с ружьем на взлет! Жаворонок… И еще, еще! Давно не стрелял перепелов, забыл, как и взлетают. Глазами помню, а вот мышцами и телом — не помню, остыл уже… Во мне какая-то сосущая пустота. Оборвал все внутри, чертовы взлеты!
«С милой дамой возвращался стиляга домой!» — Я зажмуриваюсь, стараясь отделаться от назойливости слов — эту песенку любит мой приятель, лейтенант Костя Леонтьев — обожатель дам с объемными бедрами. Чем шире и толще филейная часть, тем искреннее костино обожание.
Я сажусь.
После подъема степь наполовину задвинула автомобиль и людей. И оттуда я виден тоже наполовину. Я улыбаюсь птицам. Полевые жаворонки, каландры… а эта — колокольчиком? Переборы черноголовой овсянки. А свист — это каландра, вставляет в песню высвисты суслика. А там пустельга — легкая, уклончивая… А эта тень по прямой, что сразу исчезла — жулан… А эти смутные тени, большие — как будто кто-то водит ладонями по земле — это орланы-белохвосты… Там… дубровник? Наверное. Дубровников я видел три-четыре раза, могу ошибиться. Не знаю зачем: спускаю курки, придерживая большим пальцем, чтоб не сорвать выстрел. Вытягиваюсь на спине. Стерня злобно подпирает. Улыбаюсь ей. Пусть…
Ну и ладошки у земли! Сколько жара!..
Это же степь птиц! Я люблю птиц и голоса птиц. И в полете я всегда с птицей. И ничто — ни прошлое, ни будущее, ни слова — не имеет власти надо мной!..
Откладываю ружье в сторону на всю руку. Можно забыться — и тогда в шейке треснет, только обопрись. Чтобы стерня не колола затылок, завожу руки за голову: будто ложатся на гвозди. Пусть…
Жаворонок зависает надо мной. Пятном зыбится в слоях жара. Пятно постепенно отклоняется, и я теряю его. Но голос слышу. Это свистовой жаворонок. Он идет на взлет со свистами. Звучно-округлые свисты… А какие ж растяжные свисты у того… за головой… не вижу его!.. Наверняка свечой выпирает от поля. А свисты, свисты! Ах, молодец! Я теряю его голос в других. Их много здесь. Им, как и мне, не в тягость солнце. Наверное, не подавали голос, если бы им было жарко. Им и мне приятно солнце.
Combien coûtent ces cahiers de musique?..[4] Это привычка — подыскивать в уме французские фразы к моменту.
Под стерней пыль. Подламывая стерню, руки прижимаются к пыли. Сама земля очень жесткая, в камень. Сколько ж трещин! Шаг по такой слышен очень далеко, если умеешь слушать…
Я развожу полы рубахи. Солнце основательней упирается в меня: горячо по плечам и ногам, где ткань, и жгуче, где я обнажен.
Разве так важно — жить? Ходить, дышать, спать… Разве все это было бы так славно, если бы не мои чувства? Разве чувства не разбужены мыслью?.. Всегда быть в той жизни, какой представляешь ее — тогда жизнь! И только для этого делать свои шаги… Здесь, сейчас, все дорого, понятно, — значит, от меня, для меня и от правды. Все теряет себя без естественности. А люди?.. И что лжет: рассудок или чувства?..
Бесцветно небо, даже беловато. Наверное, от пыли. Ветра нет, но пыль все равно стоит и стоит высоко. А может быть, ее нет. Просто небо так нагорячено.
Жаворонок, которого поток горячего воздуха выносит в небо как раз надо мной, оборачивает россыпь в раскатистое колено «жеребчика». Бесцветное небо гогочет жеребчиком. И этот гогот сменяет раскатистое «ха, ха, ха!» И это тоже он. И как же внятно и раздельно хохочет! И уже все голоса жаворонков — один протяжный звон. Поют, будто весна. Но ведь не весна, не весна…
…Улицы, деревья, дома… Каковы они на самом деле? Каковы без нашей выдумки! Какими станут и вообще все станет, если мы вдруг лишимся дара на все класть выдуманность?
Странно… не слышу птиц? И вообще ничего и никого не слышу. Вот я, солнце, жар… и огромная тишина.
Кто это сказал: мертвые населяют города, все свое в них убито?..
Волосы пушисты. Перебираю их пальцами. И суховаты жаром. Может быть, они копят жар? Умеют копить. Копят впрок. Конечно, это глупости…
Беззвучно носят за собой тени орланы-белохвосты. Как же высоко забрались! Ни за что не поверю, будто это единственно ради охоты. Как благородно легок воздух, что несет их!..
На памяти заветная притча Кости Леонтьева — женатый друг убеждает приятеля бросить холостячество и обзавестисть семьей:
«Что ты все один да один? Женись! Невеста есть, и хорошая! Ну чудная девушка — только чуть-чуть беременная…»
Костя (отпетый бабник и острослов!) всякий раз извлекает притчу на свет божий, когда речь заходит о чьей-либо женитьбе.
Я разом вспоминаю множество его амурных похождений, гнев мужей и отцов, шутки, фривольные песенки…
Не представляю, сколько я лежал. Отряхиваю труху и пыль с одежды. Закатываю рукава почти до плеч. Щурюсь на солнце:
— Дави, дави, желтоглазое, не возьмешь.
Взвожу курки. Покуда лежал — услышал перепелов. Они тут. Я топал среди них. Просто они не взлетают. Собаки нет — и они бегут, а на крыло идти ленятся. Вежливые, уступают дорогу… А по песням — «частохвосты»: крики на один поспешный, свистящий удар. Но настоящий «бой» — самая полная, самая глухая хрипь…
Надо петлять. И не плавно, а в рыск. Тогда подниму. Тогда обязательно увижу. Надо не плестись, а пойти зигзагами. И в зигзагах быть внезапным.
Ну и солнце! Стволы ожигают руку. Улыбаюсь: «кусаетесь». А с собакой — гиблое дело. Собака не вынесет. Я представляю заслюнявленную морду лягавой, надрывной дых, пасть, как печь. Нет, легаш не потянет по такому пеклу. С легашом на рассвете. Конечно, взять можно, но если тепловой удар, не спасешь. Здесь не спасешь…
А я выдержу. Мне и выдерживать не нужно. Это все мое: жар, открытость поля, солнце в верхушке дня. И наливаться водой не надо. Не хочу.
И напрасно я ныл: вовсе бесполезен бесшумный шаг. Это не утиная охота. Перепела и тетерева всегда бегут, если в лоб на них. Идешь без выстрела и соображаешь: пусто, нет птицы…